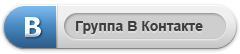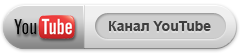Письмо от Зои
«Здравствуй, Володя! Получила твое письмо, где ты пишешь, что приходится преодолевать разные трудности, в том числе и штормы, и порадовалась за тебя. До сих пор ты видал только штиль. Зато вернешься настоящим закаленным мужчиной.
Свою фотографию я тебе не посылаю и не пришлю. Для чего? Это никому не нужно. Вот приедешь — тогда увидимся.
Очень заинтересовало меня то, что ты написал о ребятах, которые служат вместе с тобой. Даже словно бы увидела их всех. У тебя просто талант, как у писателя! А вот то, что Саше Головне никто не пишет, — странно. И странно, что ты не знаешь, в чем дело, что у него в жизни случилось. Но можно понять, что все-таки что-то случилось, и парню очень нелегко. Пожалуйста, обязательно скажи ему: если он хочет, пусть напишет мне, а мы с девчонками ему ответим и будем переписываться, так ему, наверное, будет легче и жить, и служить. Обещаешь передать?
О себе говорить нечего. Работаем. Учусь в университете культуры. Очень интересные лекции о великих русских художниках. Стала собирать открытки с их картинами, и у меня уже целая маленькая Третьяковская галерея и Русский музей. Как, оказывается, мы мало знаем, и, наверно, надо учиться всю жизнь, чтобы все равно узнать совсем немного! Зато все новое, что узнаешь, словно большая радость.
Вот и все. Еще раз прошу: передай Саше мое приглашение писать…»
Я спрятал это письмо в тумбочку. Только этого еще и не хватало, чтобы Сашка писал Зое! А ей-то зачем? Впрочем, ладно, пусть пишет. Это Костька прячет свою колбасу, а я ничего не собираюсь прятать. Вечером я сказал Сашке:
— Тобой заинтересовались, сэр. Просят вступить в дружескую переписку.
Сашка поглядел на меня долгим, пристальным и недоверчивым взглядом. Должно быть, решил, что я треплюсь или разыгрываю его после того нашего разговора. А мне было не до трепотни.
— Вот адрес Зои. Просит написать о себе. Показывать написанное мне совсем не обязательно.
— Я не буду писать, — испуганно сказал Сашка. — Зачем? Я же ее совсем не знаю. Да и ты, наверно, против?
— Вот именно, — согласился я. — Но раз она так хочет…
— Тогда придется написать, — озабоченно сказал Сашка, но меня-то ведь не обманешь. Я-то отлично видел, как он встрепенулся и начал шарить по карманам.
— Можешь взять мою ручку и бумагу, — отвернулся я. — В тумбочке, сверху.
Открыть человека
Странная погода, странный декабрь — ни морозов, ни снега, ни ветра. Черные деревья, черные камни, серая вода, серое небо. Особенно унылым все это кажется с вышки. Снизу все-таки меньше видно. Но стоит подняться на вышку — и со всех сторон подступает это черно-серое.
Я хожу по узенькому пространству между будкой и перилами, хожу, чтобы не мерзнуть, хожу и смотрю на бесконечную воду, и перед глазами начинают скользить маленькие прозрачные пузырьки. Это от напряжения, наверно. Тогда я смотрю вниз, где Леня Басов колет и колет дрова: у нас уже столько дров, что хватит на всю следующую зиму. И на печку, и на плиту, и на баню.
Леня Басов колет дрова — в холодном и неподвижном воздухе каждый удар топора как выстрел. Что бы мы делали без Леньки? Кто из нас умеет печь хлеб? А он печет — и два раза в неделю мы разыгрываем по «морскому счету» нежные, хрустящие, теплые горбушки. Здесь мне везет. Я почти всегда выигрываю горбушку. Эрих даже пошутил: вот вернешься домой — смело покупай лотерейные билеты.
И хорошо, что есть Эрих, молчаливый Эрих, потому что он еще в октябре разыскал и починил старую сетку. Бочка была, соль тоже. Теперь у нас бочка соленой рыбы. Не ахти какой, не лососинка, конечно, а окуни и щурята, но это здорово — кусок соленой рыбы с горячей картошкой. Жаль, мы приехали сюда поздно. Набрали бы и насушили грибов. Ну да на будущий год организуем… И еще — брусники бы побольше.
Стоп! Я ловлю себя на том, что думаю о будущем в основном с точки зрения желудка. А мне надо глядеть не на Леню Басова, а на воду, и думать не о грибах и бруснике. Я обшариваю воду, прильнув к окулярам МБТ. Я веду эту трубу словно по серой стене, пока не натыкаюсь на какой-то посторонний предмет. Это островок. Прибрежные камни, корявые сосны на берегу, жухлый тростник… Даже чаек нет. Пустота.
Вот бы попасть сюда летом, с Зоей, уже после службы. Выстроить шалаш или поставить палатку, ловить себе рыбу или просто валяться на солнышке… Дальше мои мысли не идут, я сам обрываю их. Костька — тот вдосталь посмеялся бы над моими мечтами. Рыбку ловить! На солнышке валяться!
Или теперь не стал бы? Нет, он не изменился после той истории с посылкой. Первую неделю, правда, ходил сам не свой, видимо, ожидая, проболтаюсь я или нет, а когда убедился, что не проболтаюсь, повел себя по-прежнему. Насмешечки и хихиканьки. Но у меня ничего не прошло. Я все время испытываю чувство какой-то неловкости за ребят. Очевидно, так бывает, когда отгадаешь фокус: смотришь на фокусника и думаешь о зрителях: как это они ничего не замечают? Впрочем, у Костьки хватило совести отказаться от сырцовских яблок и моего брусничного варенья. Он, оказывается, кислого не любит. Изжога у него, оказывается, от яблок и варенья. И на том спасибо.
Да, теперь долго не будет ни писем, ни посылок. Это нам объявил Сырцов. Сашка связался с заставой по радио, и оттуда передали: до льда. А когда он будет, лед? И газет тоже нет, и о том, что делается в мире, мы узнаем только по вечерам, когда работает дизель: кто-нибудь из ребят, свободных от службы, присаживается к старенькой «Балтике», ловит Москву. Интересно, можно ли переслать сюда транзистор? Обязательно напишу, чтоб прислали. Правда, транзистор не мой, а премия Коляничу к его сорокалетию, но ведь ничего с приемником не случится, а я верну его хозяину в целости и сохранности.
Опять в окулярах трубы серая стена. Даже незаметно, где вода сливается с небом. Хоть бы какой-нибудь самый завалящий катеришка прошлепал вдали. Здесь не ходят суда, даже рыболовные траулеры не появляются. Мели, подводные камни, да и промысловой рыбы здесь нет. Это мне растолковал Эрих. Он знает карту, и этот район тоже знает — пустота… На юго-западе — вот там действительно богатые места.
Ну хорошо, пусть не судно. Пусть какая-нибудь заблудшая лодка. Я замечу ее первым. Дам три ракеты — сигнал тревоги. Нет, сначала я должен убедиться в том, что нарушитель в наших водах, и определить направление его движения. Потом дать звонок — ракеты уже после. Но море пустынно, и я облегченно вздыхаю, когда по ступенькам начинают греметь сапоги Сашки Головни. Идет смена…
Сначала из люка высовывается его голова в зимней шапке. Потом он вырастает из досок настила, и на площадке сразу становится тесно — такой он большой, грузный, в своей ватной куртке. Еле протиснулся в люк.
— Все в порядке?
— Пустота, брат. Стоишь здесь — как будто один на всем свете. Разрешите сдать пустоту?
— Да, хоть снежку бы навалило… Ты давай топай в дом по-быстрому.
— А что?
— Костька мне не нравится. Все время цепляется к Леньке. Вы с Костькой дружки — может, угомонишь его.
— Погоди, — мне не хочется уходить. Я должен уйти, но мне не хочется. — Только честно. О чем ты думаешь здесь, на вышке?
Мне это необходимо знать. Неужели я, в общем-то, дурак со своими думами о всякой всячине? Сашка смотрит на меня непонимающе.
— Может, об этом потом? Я же тебе говорю: они переругиваются. Костька совсем какой-то ненормальный.
— А я что, нянька им?
— Иди, — строго говорит Головня и прижимаете» к перилам, чтобы пропустить меня. Только тогда я соображаю, что мне действительно надо идти. Даже не идти, а бежать, хотя я им не нянька, конечно, а просто такой же товарищ, как Сашка Головня.
Когда я вошел, они сидели за столом. Картина была вполне мирная: перед Костькой — «Загадки египетских пирамид», перед Ленькой — стихи Прокофьева. Жаль, нет у нас фотоаппарата — снять бы их и назвать снимок «Солдатский досуг»…
Но лицо Леньки было покрыто красными пятнами, а Костька кривил губы. Я знал эту его манеру. Он кривил губы, когда ехидничал, а Ленька в таких случаях покрывался пятнами, как ягуар. Стало быть, какой-то разговор уже состоялся, и я опоздал. Ну и хорошо, что опоздал. Не люблю ссор и не люблю мирить,
Здесь, в первой комнате (она же была кухней), полагалось говорить шепотом, потому что за дверью почти всегда кто-нибудь спал. Сейчас отдыхали Эрих и Сырцов. Значит, ребята ругались тоже шепотом? Забавно — такого мне еще не приходилось слышать?
— Чаек имеется? — тихо спросил я, и Ленька кивнул.
— Замерз?
— Есть малость.
— Садись. Я тебе налью…
— Не надо, я сам.
— Напрасно отказываешься, — сказал Костька. — Человек проявляет благородство все-таки. Предложить чаю Сырцову — подхалимаж, а тебе — дружеская услуга. Усек? Или, может, тебя повысили в звании?
— Перестань, — поморщился я. — Чего это тебе сегодня взбрендило?
Я налил обжигающего чая и понес к столу, на ходу грея о кружку руки. Выпью эту кружку, а потом — спать. Я уже привык спать днем. Впрочем, сейчас шестнадцать десять, а за окном уже сумерки. Через двадцать минут станет совсем темно.
Говорят, есть люди, на которых плохо действует темнота. Должно быть, Костька из таких людей. Я замечал, что к вечеру он становился особенно раздражительным. Пожалуй, стоило зажечь лампу. Но я знал: только дотронешься до нее — и руки будут долго и густо пахнуть керосином. Зажгу потом, после чая. А через минуту я уже пожалел, что не зажег лампу.
— Что взбрендило? — повторил Костька. — А то, что святых угодников терпеть не могу. Ты погляди, погляди на него! Скоро из собственной кожи вылезет, — должно быть, Костька обрадовался свежему собеседнику и теперь высказывал мне все то, что уже говорил Сашке. — Дровишек нарубить, водичку натаскать, посуду вымыть, пол подмести — и заметь, все по собственной инициативе. А зачем? Да только для того, чтоб выхвалиться: вон я какой трудяга! Или, — повернулся он к Леньке, — скажешь, что это зов души?
— Да, — очень тихо ответил Ленька. — Если я могу это сделать, почему же…
— Ерунда, угодничек! Не поверю. Только не говори, что ты так воспитан. Христосик в гимнастерке.
— Хватит тебе, — попросил я. Мне было жалко Басова. Он не находил, что ответить, и это разжигало Костькину злость. Конечно, его злило, что Ленька многое делает сам, без всякой команды или не в свою очередь. И, конечно, Сырцов мог ткнуть того же Костьку носом и сказать: бери пример с Басова. Этого Костька не мог перенести. И все, что он сейчас говорил, сводилось, в общем-то, к одному — что тебе, больше всех нужно, что ли?
— Хватит, — повторил я. — Ну, может, он действительно так воспитан, в отличие от нас с тобой. Я вот терпеть не могу подметать. У меня дома пылесос.
— А ты, брат, соглашатель, как я погляжу, — усмехнулся Костька. — Не боишься, что ценный почин товарища Басова распространится на тебя, а? И будешь ты вкалывать сверх положенного в добровольно-принудительном порядке, да еще улыбаться при этом.
— Не очень боюсь, — сказал я. — А вообще, Костька, кончай. Жаль, валерьянки у нас нет. Зря ты на парня взъелся.
— Взъелся? — хмыкнул Костька. — Я бы ему морду набил с удовольствием, вот что. Угодничек!
— А я — тебе, — сказал я.
— Ты?
— Я.
— Руки коротки.
Мы встали. Нас разделял стол. Даже в сумраке я видел, какие у Костьки бешеные глаза. Ленька тоже вскочил. Я глядел в прыгающие Костькины глаза и думал, что если он хотя бы поднимет руку — ударю первым.
Видимо, я не заметил, что мы говорили громко, очень громко, и разбудили Сырцова. Он открыл дверь рывком — и встал на пороге в одной рубашке и белых кальсонах, как привидение. Этого оказалось достаточно. Костька сел, я поднял кружку с недопитым чаем и стал прихлебывать с противным равнодушием.
— Так, — сказал Сырцов. — Занятный у вас разговор. Можно и мне послушать?
— Ладно, отец, — сказал я. — Все тихо и мирно. Ложись, досматривай сны.
Сырцов ушел в спальню, и мы слушали, как он одевается. Я зажег лампу. Сейчас будет душеспасительная беседа на тему дружбы и товарищества. Но сержант вышел и приказал:
— Соколов, отдыхай. Короткевич, сменить Головню.
— Через три с половиной часа, — сказал Костька.
— Сейчас. Проветришь мозги на вышке. А завтра с утра для всех два часа строевой. Ясно?
— Ты что? — удивился Костька. — Заниматься строевой?
— Два часа строевой, — резко повторил Сырцов. — И не только завтра, а всю неделю.
Я поежился. Мне тоже не очень-то улыбалось заниматься строевой подготовкой целую неделю, но Сырцов, конечно, прав. Великий педагог! Знает, что такое строевая.
Можно было спать. Но я подождал, пока ребята уйдут на службу. Я все равно не уснул бы. И Сырцов знал, что я не сплю, а лежу просто так.
— Не спишь?
— Не сплю.
Он сел на мою койку, да еще поерзал, устраиваясь удобнее, словно приготавливаясь к долгому разговору. И лампу перенес на тумбочку. Свет падал на лицо Сырцова так, что мне был виден только его огромный, выдвинутый вперед подбородок. Теперь этот подбородок был похож на ковшик экскаватора. «Ковшик» дрогнул — сержант сказал:
— Слышал я ваш разговор.
— Подслушивать нехорошо, — сказал я.
— А я не подслушивал. Вы же орали, а не говорили.
— Так уж и орали! Эрих-то не проснулся.
— Его разбудить трудно, — кивнул Сырцов.
Это верно: Эриха надо долго трясти, прежде чем он вылезет из своих снов. Потом он еще долго сидит на койке, охватив колени, покачиваясь и не открывая глаз.
— А вы все-таки громко говорили. Особенно Короткевич.
«Ковшик» захлопнулся. Сырцов отговорил первую часть, сейчас начнется другая. Но он долго молчал, прежде чем снова сказать:
— А я, грешным делом, лежал и думал, как ты поступишь? Выходит, зря сомневался. Дружба дружбой, а табачок врозь.
— Выходит, так, — согласился я.
— Ты, конечно, молодец. Правильно поступил. А что будем делать с Короткевичем?
— Воспитывать, наверно, — ответил я. — Только за что ж и нам строевую-то?
— Так надо, — сказал Сырцов. — А потом еще по уставам пройдемся. Забываете устав. Например, что приказ командира не обсуждается, а должен быть выполнен точно и в срок. Забыл?
— Подзабыл, — уныло сказал я, потому что спорить было бесполезно: только что сам обсуждал приказ командира. Сырцов одобрительно кивнул:
— Ну а как его воспитывать? Есть у тебя какие-нибудь мысли? Вы ведь дружки все-таки.
Дружки! Нет, никакой он мне не дружок. Только я не имею права сказать об этом. И нет у меня никаких мыслей относительно дальнейшего воспитания рядового Короткевича. Ну совсем никаких.
Но то, что Сырцов решил посоветоваться со мной, все-таки польстило. И его похвала странным образом тоже пришлась по душе. Я лежал, блаженствовал и думал: а ведь как ты придирался ко мне? Именно ко мне и ни к кому больше. Почему бы это? Бывает, конечно, физиономия не понравится… Может, ему поначалу не нравилась моя физиономия? Я не Жан Маре и даже не Эрих Кыргемаа — лицо как лицо, малость вытянутое, глаза бутылочного цвета, а нос — коротышка, и мне самому не доставляет особых радостей разглядывать себя в зеркало.
— Чего же ты молчишь?
— Думаю.
— А-а…
— Может, обсудим на комсомольском собрании? — неуверенно сказал я. Просто у нас в школе всегда было так. Чуть что — обсудить на комсомольском собрании. Опоздал на урок, или схлопотал двойку, или подрался, или даже покурил в уборной — все равно на комсомольское собрание. Поэтому сейчас я не мог придумать ничего другого.
— Идея, — согласился Сырцов. — Теперь второй вопрос: кого будем комсгрупоргом выбирать? Пора. Вроде бы мы уже узнали друг друга.
— Леньку, — повторил я. — Кого же еще?
— Я с тобой серьезно говорю, — покосился на меня Сырцов.
Тогда я сел на койке. Я ведь тоже говорил серьезно: как он этого не понимает! Сырцов глядел на меня, и мне казалось, что мысли в его голове ворочаются с шумом и скрежетом.
— А что? — вдруг спросил он не меня, а самого себя. — Может, ты и прав.
— Конечно, прав.
— Вообще-то самый положительный из нас — это Эрих.
Он еще сомневался в моей правоте! Я перебил его:
— Значит, я не положительный?
— Ты? — Сырцов снова поглядел на меня. — Хочешь честный разговор?
Я кивнул. Конечно, я очень хотел, чтобы разговор был честный.
— В основном ты, конечно, положительный… Только разболтанный. Нет в тебе — как бы это сказать? Ну, твердости душевной, что ли. Это не я один так думаю.
— Погоди, — перебил я его. — Помнишь, мы с комендантом беседовали, а потом он тебя попросил остаться?
— Помню.
— Обо мне говорили?
— О тебе. Вот тогда он и сказал, чтоб я особенно приглядывался к тебе. Хороший, говорит, парень, а в голове сплошные завихрения.
— Имеется малость, — грустно согласился я. Впрочем, я ведь был почти уверен, что подполковник говорил с сержантом именно обо мне. Так что ничего нового я не узнал. Я сидел и вспоминал ту злосчастную беседу, когда комендант даже забыл поговорить с Сашкой Головней. Это из-за меня. Сашка, наверно, огорчился, что его забыли.
— Нет, — качнул головой Сырцов. — Подполковник с ним нарочно не заговорил тогда. Понимать же надо.
— Что понимать?
— Обстановку. Он не хотел Сашке больно делать.
— Темнишь.
— Не надо только болтать. У Сашки отец пьяница. Весь дом пропил. Сашка от него ушел. Хорошо, настоящего человека в жизни встретил, капитана милиции.
— А отец? — все-таки спросил я.
— Вроде бы в лечебнице.
Меня словно обожгло. Все стало понятным. И даже та случайно прочитанная строчка из письма к другу-милиционеру: «…за все, за все Вам всегда буду…» Значит, живет человек рядом со мной и один переносит свою беду? Мне хотелось вскочить, одеться и побежать туда, на прожекторную. Ничего не говорить. Просто побыть с Сашкой. Ну, может, пошутить, чтоб улыбнулся. Спросить, написал ли он Зойке.
— Ладно, — сказал Сырцов. — Спи. И так почти час проболтали. А я пойду…
Ему никуда не надо было идти. Он тоже должен был спать сейчас. Значит, он почувствовал то же самое, что и я. В таком случае мы пойдем вместе. Я спустил ноги и начал одеваться, а Сырцов молча глядел на меня.
Мы вышли и вдруг увидели снег. Ночь была белой. Снег валил медленно и густо. Я включил фонарь, и луч уперся в белую завесу. Мы шли через нее, ничего не различая в трех шагах, и ноги мягко увязали в снегу. Но сбиться мы не могли. Дорогу на прожекторную каждый из нас нашел бы с закрытыми глазами.
— Плохо, — сказал Сырцов. — Видимость нулевая. На заставах, наверное, усиленную объявили. А кто радуется — это Ленька.
— Почему? — не понял я.
— Эх, ты, городской! — усмехнулся Сырцов. — Для тебя снег — лыжи, а для крестьянина — урожай. Понял?
Я кивнул и подумал, что Сырцов — чудесный парень, черт возьми, и жаль, что мы с ним не договорили и что я все-таки очень мало знаю его, куда хуже, чем он меня.
— А сам ты какой: городской или деревенский?
— Лесной, — ответил Сырцов. Мы уже подошли к прожекторной, и, словно приветствуя нас, в белую пелену ударил голубой сверкающий луч. Это сверкали миллиарды снежинок. И казалось, можно было услышать, как они шелестят, соприкасаясь с голубым лучом.
В пограничной полосе
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
Старший лейтенант дед-мороз Ивлев
К концу декабря лед стал, начались морозные солнечные дни и звездные безлунные ночи. Никогда в жизни я не видел таких ярких звезд и так много сразу.
Я уже здорово приноровился вести трубу за лучом прожектора. Но если раньше взгляд словно бы скользил по серой стене, теперь он скользит по белой. Огромное белое пространство, тронутое лишь ветром, — это он намел снежные барханы.
И снова, когда гаснет прожектор, мне начинает думаться о всякой всячине: о том, что мои уйдут на Новый год в гости; а Зойка будет встречать его в общежитии; а на заставе посмотрят по телевизору «Голубой огонек». До заставы — всего каких-нибудь двенадцать километров, там модерновая столовая, и электричество, и библиотека, и телевизор — живут же люди! А нам так и не успели привезти хотя бы книжки. Я уже прочитал «Загадки египетских пирамид», и Горького, и уставы. Попросил у Леньки дать почитать стихи Прокофьева. И вдруг, к удивлению, знакомое:
А песня взлетела, и голос окреп.
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб!..
И ветер — лавиной, и песня — лавиной…
Тебе — половина, и мне — половина!
Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам,
Мы хлеба горбушку — и ту пополам!
А я и не знал, что это песня Прокофьева. Сто раз слышал и сам пел, а не знал.
Это почти про нас, вот почему она мне нравится. Почти про нас, если не считать Костьку, который прятал свою паршивую колбасу. Интересно, что он сделает, когда снова придут посылки? Впрочем, кто знает, когда придут хотя бы письма. Там, на заставе, наверное, уже скопились горы писем для нас… Мать и Колянич перепсиховались, потому что не получают писем от меня… Впрочем, что я смогу написать? Жив, здоров, вот и все.
Ну, не совсем здоров. Три дня подряд у меня болит зуб. Худшей болезни нарочно не придумаешь. Он тихо ноет, а к вечеру словно просыпается и начинает болеть так, будто норовит выскочить сам. В такие минуты кажется, что за щеку сунули раскаленный гвоздь и шуруют там. Две пачки пираминала, которые были в нашей аптечке, я уже съел. Правда, если закурить и держать дым во рту, становится немного легче. От зубной боли еще никто не умирал, и я тоже не умру. Только интересно, сколько же он еще будет болеть, окаянный?
Я поднял воротник тулупа и спрятал в него щеку. Когда греешь, становится малость легче. Если бы я служил не здесь, а на заставе, меня давно бы отвезли к зубодеру, и все было бы в порядке. А здесь — терпи. И я терплю, стараясь думать о чем угодно, чтобы обмануть этот проклятый зуб. Но все равно, четыре часа на вышке кажутся мне бесконечно долгими, и, когда снова в люк протискивается Сашка Головня, я облегченно вздыхаю. Все! Забирай тулуп и дыши свежим воздухом на здоровье.
— Есть новости, — сказал Сашка. — Утром будет почта.
— Иди ты!
— По рации старший лейтенант передал! Как у тебя зуб?
— Болит.
— Ромашку бы…
— Врача бы, — сказал я. — Хотя больше всего на свете не люблю бормашину и будильник.
Без тулупа, в одной зимней куртке, мне стало холодно, но я не спешил уходить. У нас с Сашкой был одни неоконченный разговор — о чем он думает здесь в одиночестве. Правда, я нарушал порядок, можно было бы найти другое время для разговора. Тем более — зуб… Но все-таки я снова спросил Сашку, о чем он обычно думает, когда дежурит на вышке.
— О всяком, — ответил он.
— Ну, например.
— О том, что буду делать на гражданке.
— Домой вернешься.
— Нет, не вернусь…
— Костька — тот о своих девочках думает.
— Я тоже.
— Ты?
— Я. Только иначе, чем Костька. Не нравится мне, как он об этом говорит. Любовь одна на двоих.
— «Тебе половина и мне половина»?
— Может, мне даже меньше половины, а ей — больше.
— А-а…
— Ты Толстого читал?
— Проходили. Ну, «Казаки» там, «Войну и мир», «Каренину» в кино видел.
— А я вот читал и выписывал для себя разные мысли. Знаешь, как он писал о любви? «Любить — значит жить жизнью того, кого любишь».
— Загнул! — сказал я. — Что ж тогда — своей жизни не иметь?
Сашка не ответил. С прожекторной дали «мигалку», и он взялся за рукоятки трубы. Начинался поиск. А проклятый зуб начал дергать со страшной силой.
— Пойду, — сказал я Сашке и не сдвинулся с места. Мы еще не договорили. Стоял и глядел, как медленно движется светлая полоса, теряясь в заснеженном пространстве, словно сливаясь с ним.
— Ты здесь? — удивился Сашка, когда поиск кончился. — Не договорил, что ли?
— Так просто.
— Ладно, ты со мной дипломатию-то не разводи. Вот, возьми, прочитай дома, — он полез за отворот тулупа. Долго расстегивал куртку и долго искал что-то, а потом вытащил сложенный лист бумаги. — Сегодня написал. Если что не так — скажешь.
— Что это?
— Письмо.
— Не буду читать.
— Нет, прочитай, — сказал Сашка, отворачиваясь от меня. — Я тебя очень прошу. Так надо. Я не хочу, чтобы ты подумал…
— Брось, Сашка, ничего я не думаю. Давай, брат, неси бдительно службу.
Только этого мне и не хватало — читать его письма к Зое. Особенно сейчас, когда зуб болит совсем по-сумасшедшему.
— Тогда я сам тебе расскажу… Я ей про себя написал. Как жил, как отец над нами с матерью измывался.
— Не надо, Сашка, — тихо сказал я. — Не надо. Я знаю.
Должно быть, он хотел спросить, откуда я знаю, но промолчал. Я хлопнул его по спине. Сейчас я все-таки уйду. Зачем мне подробности? Сашка и так, наверное, разбередил себе душу, когда писал Зойке.
* * *
Долго не мог заснуть, дышал в подушку и быстро накрывал щекой нагретое место, потом попробовал тереть щеку — еще хуже. И проснулся тоже от зубной боли. Очевидно, уже было утро: рядом похрапывал Костька, из угла доносилось сонное бормотание Леньки.
Сил моих больше не было. Но я знал, что делать. Сейчас я пойду на прожекторную, в гараж. Там, на полке, стоит канистра с эмульсией, которой мы очищаем отражатель прожектора. Спирт с мелом. Попробую подержать во рту. Мел — штука безвредная; во втором или третьем классе я на спор съел целую палочку, и со мной ничего не случилось.
В гараже никого не оказалось. Кружку я прихватил с собой и налил туда белой, похожей на молоко, жидкости. Рот обожгло сразу, но сразу же притихла и боль. Словно испугалась. Для меня эта боль была уже чем-то совершенно самостоятельным, вроде маленького зверька, который рыл себе нору. И вот зверек затих.
Если попробовать еще раз, и еще, может, он и вовсе сдохнет. Все-таки спирт, что ни говори.
Я отхлебывал из кружки эмульсию, склоняя голову, чтобы она попадала на зуб, а потом начинал плевать за дверь. Кроме мела, там, наверно, было намешано что-то еще. Во рту у меня стало противно и жгло, будто я сжевал стручок перца. Но боль утихла! Ага, попался, зверек! Я даже потрогал зуб онемевшим языком — не болит! Попрыгал на одной ноге — не болит! А теперь — домой, и сейчас я съем две тарелки картошки с тушенкой, потому что вчера совсем ничего не мог есть…
Возле дома воткнутые в сугроб стояли две пары лыж и детские санки со «спинкой». Откуда у нас детские санки? Я открыл дверь, вошел в первую комнату и увидел старшего лейтенанта.
Начальник заставы уже сидел за столом и пил чай, а Сырцов возился возле печки. Здесь же был еще один незнакомый солдат, белесый, с белыми ресницами и красным, как помидор, лицом. «С мороза», — догадался я. Он пришел со старшим лейтенантом. А на санках они привезли почту. И книги. Пачка книг лежала на подоконнике.
— Разрешите войти?
— Входите, входите, Соколов. Только тише — товарищи спят.
— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант.
Он кивнул, продолжая шумно прихлебывать чай.
Я незаметно оглядел комнату. Вот он, брезентовый мешок, стоит в углу, как наказанный мальчишка. Старший лейтенант все-таки заметил, что я шарю глазами по комнате, и засмеялся:
— Садитесь, разбирайте почту. Вам, кажется, штук десять писем.
У меня от нетерпения не слушались руки, и я не сразу сумел развязать веревку. Никак не мог найти, за какой конец потянуть. Путался и не замечал, что начальник заставы перестал прихлебывать чай.
— Товарищ Соколов…
— Я сейчас… Вот ведь как завязали!
— А ну-ка, нагнитесь ко мне.
— Что?
— Нагнитесь и дыхните.
Я нагнулся, дыхнул — и обомлел. Все сошлось! И то, что от меня разило спиртом, и то, что я не мог развязать веревку. Старший лейтенант медленно встал, и я тоже встал, судорожно сжимая в руке мешок с долгожданными письмами.
— Так, — сказал начальник заставы. — Что же у вас происходит, товарищ сержант!
Сырцов быстро поднялся с корточек и удивленно поглядел на старшего лейтенанта. Он еще ничего не понимал. А что именно происходит?
— Дыхните, Соколов.
— Товарищ старший лейтенант…
— Дыхните, дыхните, не стесняйтесь! Что пили-то хоть? Один или в компании?
— А ну, — с яростью прошептал Сырцов, придвинувшись ко мне вплотную. — Ты что же делаешь? Откуда взял?
Мне стало так обидно, что я решил даже не оправдываться. Все равно не поверят. Будь что будет.
— Сбегал в соседний гастроном, — сказал я. — Знаешь, за углом налево.
Сырцов отодвинулся и начал медленно бледнеть, а челюсть-ящик полезла вперед. Начальник заставы все глядел и глядел на меня, а я ответил тем же: смотрел ему в глаза, как будто играл в «мигалки». Видимо, до него что-то дошло.
— Получил вино в посылке?
— Не было у него в посылке вина, товарищ старший лейтенант, — сказал Сырцов. — Это я точно знаю.
— Только закуска, — подтвердил я. Теперь-то мне нечего было терять. Я мог говорить что угодно. Все равно отвечать.
— Что же вы пили?
— Ничего. У меня три дня зуб болел. Я рот эмульсией прополоскал, вот и все.
— Эмульсией? — переспросил начальник заставы.
— Честное комсомольское, — сказал я.
— Комсомольское, говорите?
— Это точно, товарищ старший лейтенант, — сказал Сырцов. — Три дня с зубом мучается. А в эмульсии спирт, — он повернулся ко мне: — Ну а потом, когда прополоскал, выплюнул эмульсию или проглотил?
— Глотай сам, — сказал я. — Дураков нет.
— Как вы разговариваете с сержантом, товарищ Соколов?
Но теперь я знал твердо — поверили. Сырцов буркнул:
— Ладно, извини. А эмульсия, между прочим, не для тебя, а для прожектора.
Старший лейтенант кивнул и взял свою кружку.
— Три наряда вне очереди, когда поправится! За эмульсию и за разговоры.
* * *
Старший лейтенант пробыл у нас день, проверял «Пограничную книгу», расписание нарядов, полночи провел на прожекторной, а под утро приказал мне собраться. Я не стал задавать вопросы, я знаю, чем это пахнет. Сырцов успел шепнуть мне — пойдешь на заставу, оттуда — в город, к врачу. Конечно, если б не те три наряда, я бы поспорил. Сказал бы, что зуб пройдет сам собой. А сейчас я вытащил из кладовки лыжи и палки и ждал, когда начальник заставы кончит свои дела.
Вот тогда, впервые после нашей ссоры, ко мне подошел Костька:
— Прихватишь сигарет?
— Прихвачу. Больше ничего не надо?
— Ничего, — он помолчал и усмехнулся: — Ну разве что пол-литра.
— Не пойдет.
— Тебе можно, а мне нельзя? Нехорошо. Хорошо только, что мы с тобой квиты.
— В чем же?
— Брось, — сказал Костька. — Я ведь тоже не пойду и не щелкну на тебя. Думаешь, я поверил, что ты эмульсией рот полоскал? А придумал ты лихо!
Кто мог рассказать Костьке об истории с эмульсией? Ведь все еще спали. Сырцов? Вряд ли.
— Этот, с заставы, — объяснил Костька. — Дубоватый парень, Ложков. Ну а честно — что пил?
Я не стал его разубеждать. Зачем?
Вышел старший лейтенант и начал надевать лыжи.
— Пока, — сказал я ребятам. Они глядели на меня тоскливыми глазами, потому что сегодня я буду в городе, увижу машины, дома, людей, может, даже схожу в кино, и цена всему этому счастью один вырванный зуб. Я смогу даже зайти в кафе и просадить там трешницу на лимонад и мороженое. Наверно, если бы уходил не я, а кто-нибудь другой, у меня тоже были бы такие тоскующие, до краев наполненные черной завистью глаза.
— Пока, — сказал Сырцов. — Смотри там…
— Будь. Мы пошли.
Старший лейтенант шел впереди, далеко выкидывая палки. Шаг у него был легкий, стремительный, и мы с Ложковым быстро отстали.
— Ты не гонись за ним, — хрипло сказал мне Ложков. — Чего с пупа-то рвать? Он мастер спорта, а мы с тобой любители.
Ложков шел сзади меня и тащил санки.
Минут через сорок я обернулся. Остров был уже далеко, и дом не виден. — я разглядел только верхушки сосен и вышку, и вдруг мне стало как-то не по себе от того, что я ухожу дня на два или три, и эти два или три дня ребята будут делать мою работу. Будут меньше спать и больше уставать, и все потому, что у Владимира Соколова, видите ли, зубик заболел.
— Давай посидим на саночках, — обрадовался Ложков. — Нам с тобой не на олимпиаду ехать.
— Идем, — сказал я. — Вот получим пенсию, тогда посидим.
Я должен был спешить. Хорошо бы завтра вернуться на прожекторную. И никаких там кафе в городе, никаких кино. Тогда вполне успею вернуться к завтрашнему вечеру.
Резче взмахиваю палками, отталкиваюсь и начинаю нагонять старшего лейтенанта. Ложков плетется уже далеко позади.
…Фамилия нашего старшего лейтенанта Ивлев. Мы почти не знаем его: ведь на заставе прожили неделю, а к нам он вообще не приезжал ни разу. Говорят, был на сборах. Он действительно мастер спорта. А что за человек — неизвестно.
Правда, о старшем лейтенанте Ивлеве я читал большую статью в газете «Пограничник». Это было еще там, на учебном пункте, до того, как мы прибыли на заставу. В статье рассказывалось, как здорово он организовал физподготовку. Но на фотографии он был почему-то со своими детьми-двойняшками — сыном и дочкой. И сейчас Ложков тянет за собой их санки.
Вот и все, что я знал о старшем лейтенанте Ивлеве.
Он шел, не оборачиваясь, будто вообще забыв о нашем существовании. У меня же опять разболелся зуб, и я спешил за начальником заставы вовсе не из спортивного интереса. Скорей бы добраться до госпиталя. Бежать было жарко, я сдвинул шапку на самый затылок и расстегнул куртку. Зачем старшему лейтенанту понадобилось идти пешком? Я же видел — на заставе есть аэросани. Вполне мог приехать на них. Или боится, что лед еще не окреп?
Старший лейтенант наконец-то обернулся и встал, поджидая меня.
— А вы ничего ходите, — сказал он. — Учились где-нибудь?
— Самоучка, товарищ старший лейтенант.
Он прищурился, словно прикидывая что-то в уме.
— Хорошо, учтем этот ваш талант.
И опять мне стало не по себе. А ну как начнут меня посылать на всяческие соревнования или кроссы? Надо было послушаться Ложкова и не «рвать с пупка». Теперь уже поздно. Теперь в глазах начальника заставы я талант… А Ложков плелся где-то далеко-далеко, и у него не было никаких талантов, кроме, пожалуй, одного — сачковать. Мне стало смешно и немножко жалко Ложкова, когда старший лейтенант, нетерпеливо поглядывая в его сторону, сказал, совсем как Волк из мультфильма:
— Ну, Ложков, — погоди!..
* * *
Как ни хотелось мне скорее вернуться домой, на прожекторную, все получилось иначе. Зуб — ерунда. Вытащить его оказалось минутным делом. И попутная машина из отряда была. И в кино не зашел — только просмотрел афиши: «Лев зимой», «Золотые рога», «Джен Эйр».
Единственное, что успел сделать, — это забежать на почту и позвонить домой, в Ленинград. Девушка, принимавшая заказ, строго сказала: «Разговор в течение часа». Должно быть, у меня было страдальческое лицо, потому что она снова сняла трубку и сказала кому-то: «Понимаешь, здесь солдат звонит, дай побыстрей». Я ждал и гадал: дома мои или еще не вернулись? Обидно, если задержались где-нибудь. Мать могла пойти в магазин, у Колянича вечные собрания и заседания. Но, видимо, есть пограничный бог. Трубку подняла мама.
— Кто это?
— Вот тебе и на! Я, Володя.
— Володя?
Она замолчала; в трубке что-то потрескивало и попискивало; мне показалось — разъединили.
— Мама, это я. Ты слышишь?
— Слышу, Володенька.
И тут же раздался голос Колянича:
— Володька, мать в трансе. Как живешь?
— Нормально. Как вы?
— Ну, поскольку ты охраняешь нас, — отлично. Здоров?
Трубку вырвала мама:
— Володенька, ты почему так долго не писал?
— Обстановка такая.
— Что такая?
— Обстановка, говорю, была. А ты чего ревешь?
— Я не реву.
— Ревет, — вырвал у нее трубку Колянич. — Уже ковер поплыл и мои ботинки. Тут к нам одна твоя знакомая строительница приходила, тоже волновалась, что нет писем.
— Обстановка, — сказал я. — Как вы?
— Я же сказал — все хорошо.
— Ну и у меня все хорошо.
— Володенька, — хлюпнула в трубку мама. — Как ты себя чувствуешь?
— Нормально.
— Кончайте разговор, — вмешался чей-то голос. — Ваше время истекло.
На всякий случай, я сказал несколько раз «алло, алло», но трубка молчала. Все. Поговорили, называется.
На заставе я зашел в канцелярию — доложиться старшему лейтенанту; он сказал:
— Поживите у нас денька два.
— Товарищ старший лейтенант, там же без меня…
— Вы, кажется, собираетесь спорить со мной?
— Нет.
— Ну вот и хорошо.
«Денька два» — это значит, до самого Нового года. А я-то накупил ребятам конфет, полтора кило шоколадной смеси. Получат уже после Нового года. Жаль! И, конечно, не дело, что я буду болтаться эти два дня на заставе. «Некому тебя сопровождать, — объяснил мне Ложков. — А одного не пустят». — «А ваши аэросани?» Оказывается, у саней была сломана лыжа. В первый же выезд водитель (совершенный лопух!) наскочил на ропак, и лыжа разлетелась, как стеклянная. Сейчас чинят. «А чего тебе? Отсыпайся, — сказал Ложков. — Солдат спит, служба идет, все законно». Я мог спать сколько угодно и не спал.
Значит, Зойка заходила к моим! Волновалась, что нет писем. Стало быть, она ждет мои письма, а раз волнуется… Голова у меня шла кругом. Я засел в ленинской комнате и сочинил ей огромное письмище. «Почти все свободное время я думаю о тебе, — написал я. — И даже представлял себе, что если бы мы оказались здесь. Места у нас красивые… (Дальше шло описание природы.) А если один человек все время думает о другом, это что-то значит». Я все время намекал и намекал. Должна понять, не глупенькая. «Не волнуйся, если снова долго не будет писем. Служба у нас такая». И в самом конце приписал: «Получила ли послание Сашки Головни? Знаешь, у него действительно тяжелая жизненная история, пусть твои девчонки напишут ему». Это была, конечно, хитрость. Мне не хотелось, чтоб ему писала сама Зойка. «Как понравились тебе мои родители?»
Мне было легко и спокойно. Зуб не болел. Ленинградский СКА выиграл у «Химика» — я смотрел матч по телевизору. Зойка волнуется из-за меня так, что даже отважилась прийти к моим. Все в жизни хорошо. Даже то, что два дня я отрабатываю свои три наряда вне очереди: расчищаю от снега дорожки, посыпаю их песком, таскаю мишени на стрельбище.
— Соколов, к начальнику заставы!
Я бросил работу и выжал стометровку с рекордным временем. Старший лейтенант ждал меня в коридоре заставы. Он был в лыжном костюме, и поэтому я не сразу узнал его.
— Вы готовы?
— Всегда готов, — ответил я.
Ивлев прищурился.
— Тогда надевайте лыжи и пошли.
— Разрешите только конфеты взять?
— Какие еще конфеты?
— Ребятам на Новый год купил.
— А-а, берите. Только скорее. И вот вам маскхалат. Я взял у него белый сверток, не понимая, на кой черт мне этот маскхалат. Смеркалось, и я совсем перестал что-либо понимать. Почему нужно идти в темноте? Неужели начальнику заставы так уж хочется встретить Новый год с нами? У него же семья здесь. Я сам вылепил роскошную снежную бабу для его ребятишек.
…Мы идем быстро, и я не отстаю от старшего лейтенанта. Потом я замечаю, что мы идем вроде бы совсем не в ту сторону. Кончилась лыжня, старший лейтенант шагает по снежной целине. Мне легче идти за ним. Морозец не очень крепкий, градусов десять, но за начальником заставы вьется легкий пар. Конечно, топать по целине куда хуже; скоро от него дым повалит, а не пар, если идти вот так, все дальше и дальше — в замерзшее море.
Хорошо, что я ни о чем не спросил его. Все и так ясно. Мы дадим здоровенного кругаля, спрячемся за островом, потом наденем маскхалаты и будем «нарушать границу». Время старший лейтенант выбрал, конечно, самое подходящее — новогодняя ночь. «А ведь молодчина! — подумал я. — Где бы посидеть дома, как положено нормальным людям, шагает за добрых двадцать километров». — Это я прикинул в уме. Но, может быть, и не двадцать, а двадцать с лишним, потому что к маленькому островку мы должны подойти тоже скрытно.
— Устал?
— Есть малость.
— Три минуты.
Мы стоим три минуты, переводя дыхание, и пар вьется над нами.
— Угостил бы конфеткой, что ли?
— Пожалуйста.
Конфеты у меня распиханы по карманам. Мы съедаем по одной и закусываем снегом.
— Пошли.
Только бы не подвели ребята. Я пытаюсь сообразить, кто будет сегодня на вышке и кто — на прожекторе, но это нелепо — гадать, из-за меня Сырцов перекроил график нарядов. Только бы смотрели лучше. Может, мне как-то удастся… Нет. Мне ничего не удастся. Старший лейтенант заметит, и тогда от рядового Владимира Соколова полетят пух и перья. Только бы они смотрели лучше! Я иду и думаю, что есть на свете телепатия. Сам читал. Надо только сосредоточиться и все время передавать: «Смотрите лучше — мы идем. Смотрите лучше — мы идем». Я буду передавать Сырцову.
Я представляю себе его лицо со здоровенной челюстью смотрю в его глаза и медленно в такт шагам, повторяю: «Смотрите… лучше… мы… идем…»
Времени нет. Оно словно бы остановилось здесь, в снежном море. Сколько мы прошли и сколько еще шагать? Я устал, это замечаю по тому, что старший лейтенант уходит вперед. «Ты, мастер спорта, должен же ты понять, что я устал? — непочтительно думаю я. — Ну остановись, дай человеку передохнуть малость. А за это конфетку дам». Он не останавливается. Светит луна, и длинная тень начальника заставы все удаляется, удаляется от меня. Ничего не выходит из моей телепатии. «Остановись!» — он идет. «Остановись!» — он не останавливается.
Не хватает только упасть. Замерзну как цуцик, и если старший лейтенант дотащит меня, то уже в виде сосульки. Я взмахиваю палками. Нет, еще рано падать. Еще можно идти, хотя бы на этих трясущихся ногах. Тень старшего лейтенанта начинает приближаться. Или он замедлил шаг, или я начал догонять его. Одно из двух. Скорее всего он тоже устал. Мастера спорта тоже не из железа.
— Три минуты.
— И конфетку?
— Нет, спасибо. Надевай маскхалат.
И только тогда я замечаю, что мы уже за островом. Пот из-под шапки заливает мне лицо. Но вот он, островок; на голубом фоне острые пики елок, темные валуны со снежными шапками. До меня не сразу доходит, что голубой фон — это свет нашего прожектора. Свет меркнет, смещается в сторону — островок исчезает.
— Вперед!
У меня уже не дрожат ноги. Я иду за старшим лейтенантом почти вплотную. Островок слева. Мы обходим его — и вперед, вперед… «Смотрите… лучше… мы… идем…» Ну чего же они там? Почему не включают прожектор? Спят они все, что ли?
— Ложись и не двигайся. Вот он!
Голубой свет вспыхивает так неожиданно, что я не сразу успеваю повалиться в снег.
— Не двигайся, — с угрозой повторяет старший лейтенант. Он смотрит на меня. Думает, что я как-нибудь демаскируюсь. Все-таки там — свои ребята.
Свет уходит: нас не обнаружили.
— Вперед!
Мы бежим, бежим изо всех сил. И вдруг облако света обрушивается на нас; свет бьет в глаза, свет со всех сторон.
— Назад!
Теперь прожектор светит нам в спину. Мы уходим, убегаем от него; я не вижу ракет, которые пускают с вышки: сигнал тревоги «Прорыв со стороны границы». Но я знаю, что ракеты уже пущены и на соседних заставах нас увидели.
— Скорей, скорее!
«Куда же он? — думаю я на ходу. — Долго он будет таскать меня по снегу?» Когда я падал, снег набился в рукава, попал за шиворот — и теперь по груди и животу ползут холодные струйки воды. А все-таки нас обнаружили! Нашли, черт возьми! Свет не отпускает нас, мы по-прежнему в луче прожектора. Я догадываюсь, старший лейтенант хочет снова спрятаться за островком, переждать.
Так и есть.
Мы тяжело дышим и смеемся. Стоим и оба смеемся, потому что нам не удалось пройти.
— Сейчас будет самое интересное, — говорит старший лейтенант. — А пока давай по конфетке, если не жалко.
— Не жалко.
— «Южная ночь», — говорит он, разжевывая конфету. — Мои любимые. Устал здорово?
— Здорово.
— Тебе надо подучиться. Вполне можешь сдать на разряд.
— Некогда.
— Ты, наверно, ленив малость?
— Малость ленив, — соглашаюсь я.
— Тогда ничего не получится. Ага, едут!
Я еще ничего не слышу. Приходится задрать опущенное «ухо» шапки, и тогда явственно доносится далекий рокот мотора. Только я не могу определить, с какой стороны. Звук слышен то справа, то слева, он мечется по всей снежной целине.
— Пошли.
— Товарищ старший лейтенант…
— Нечего стоять. Замерзнешь.
Легко, будто бы и не было позади двух десятков километров, он снова скользит по снегу. Мы уходим в открытое море. Островок-укрытие остается за спиной.
— Смотрите!
Издали к нам приближается разлапистое чудище с двумя горящими глазами-фарами. Гул мотора нарастает. Я оборачиваюсь — с другой стороны на нас идет другое такое же чудовище, и мне становится жутковато.
— Все, — втыкает палки в снег мой начальник заставы. — Не рыпайся и поднимай лапки вверх. Ну, быстро.
Поднимаю руки. Аэросани светят нам в лицо своими глазищами-фарами. Солдаты выпрыгивают в снег, различаю лишь силуэты, но зато явственно слышу остервенелый собачий лай. А ну как сорвется собачка с поводка? Как ей тогда докажешь, что я вовсе не иностранный шпион и даже не нарушитель пограничного режима, а самый что ни на есть свой? И я бочком, бочком прячусь на всякий случай за спину старшего лейтенанта.
К концу декабря лед стал, начались морозные солнечные дни и звездные безлунные ночи. Никогда в жизни я не видел таких ярких звезд и так много сразу.
Я уже здорово приноровился вести трубу за лучом прожектора. Но если раньше взгляд словно бы скользил по серой стене, теперь он скользит по белой. Огромное белое пространство, тронутое лишь ветром, — это он намел снежные барханы.
И снова, когда гаснет прожектор, мне начинает думаться о всякой всячине: о том, что мои уйдут на Новый год в гости; а Зойка будет встречать его в общежитии; а на заставе посмотрят по телевизору «Голубой огонек». До заставы — всего каких-нибудь двенадцать километров, там модерновая столовая, и электричество, и библиотека, и телевизор — живут же люди! А нам так и не успели привезти хотя бы книжки. Я уже прочитал «Загадки египетских пирамид», и Горького, и уставы. Попросил у Леньки дать почитать стихи Прокофьева. И вдруг, к удивлению, знакомое:
А песня взлетела, и голос окреп.
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб!..
И ветер — лавиной, и песня — лавиной…
Тебе — половина, и мне — половина!
Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам,
Мы хлеба горбушку — и ту пополам!
А я и не знал, что это песня Прокофьева. Сто раз слышал и сам пел, а не знал.
Это почти про нас, вот почему она мне нравится. Почти про нас, если не считать Костьку, который прятал свою паршивую колбасу. Интересно, что он сделает, когда снова придут посылки? Впрочем, кто знает, когда придут хотя бы письма. Там, на заставе, наверное, уже скопились горы писем для нас… Мать и Колянич перепсиховались, потому что не получают писем от меня… Впрочем, что я смогу написать? Жив, здоров, вот и все.
Ну, не совсем здоров. Три дня подряд у меня болит зуб. Худшей болезни нарочно не придумаешь. Он тихо ноет, а к вечеру словно просыпается и начинает болеть так, будто норовит выскочить сам. В такие минуты кажется, что за щеку сунули раскаленный гвоздь и шуруют там. Две пачки пираминала, которые были в нашей аптечке, я уже съел. Правда, если закурить и держать дым во рту, становится немного легче. От зубной боли еще никто не умирал, и я тоже не умру. Только интересно, сколько же он еще будет болеть, окаянный?
Я поднял воротник тулупа и спрятал в него щеку. Когда греешь, становится малость легче. Если бы я служил не здесь, а на заставе, меня давно бы отвезли к зубодеру, и все было бы в порядке. А здесь — терпи. И я терплю, стараясь думать о чем угодно, чтобы обмануть этот проклятый зуб. Но все равно, четыре часа на вышке кажутся мне бесконечно долгими, и, когда снова в люк протискивается Сашка Головня, я облегченно вздыхаю. Все! Забирай тулуп и дыши свежим воздухом на здоровье.
— Есть новости, — сказал Сашка. — Утром будет почта.
— Иди ты!
— По рации старший лейтенант передал! Как у тебя зуб?
— Болит.
— Ромашку бы…
— Врача бы, — сказал я. — Хотя больше всего на свете не люблю бормашину и будильник.
Без тулупа, в одной зимней куртке, мне стало холодно, но я не спешил уходить. У нас с Сашкой был одни неоконченный разговор — о чем он думает здесь в одиночестве. Правда, я нарушал порядок, можно было бы найти другое время для разговора. Тем более — зуб… Но все-таки я снова спросил Сашку, о чем он обычно думает, когда дежурит на вышке.
— О всяком, — ответил он.
— Ну, например.
— О том, что буду делать на гражданке.
— Домой вернешься.
— Нет, не вернусь…
— Костька — тот о своих девочках думает.
— Я тоже.
— Ты?
— Я. Только иначе, чем Костька. Не нравится мне, как он об этом говорит. Любовь одна на двоих.
— «Тебе половина и мне половина»?
— Может, мне даже меньше половины, а ей — больше.
— А-а…
— Ты Толстого читал?
— Проходили. Ну, «Казаки» там, «Войну и мир», «Каренину» в кино видел.
— А я вот читал и выписывал для себя разные мысли. Знаешь, как он писал о любви? «Любить — значит жить жизнью того, кого любишь».
— Загнул! — сказал я. — Что ж тогда — своей жизни не иметь?
Сашка не ответил. С прожекторной дали «мигалку», и он взялся за рукоятки трубы. Начинался поиск. А проклятый зуб начал дергать со страшной силой.
— Пойду, — сказал я Сашке и не сдвинулся с места. Мы еще не договорили. Стоял и глядел, как медленно движется светлая полоса, теряясь в заснеженном пространстве, словно сливаясь с ним.
— Ты здесь? — удивился Сашка, когда поиск кончился. — Не договорил, что ли?
— Так просто.
— Ладно, ты со мной дипломатию-то не разводи. Вот, возьми, прочитай дома, — он полез за отворот тулупа. Долго расстегивал куртку и долго искал что-то, а потом вытащил сложенный лист бумаги. — Сегодня написал. Если что не так — скажешь.
— Что это?
— Письмо.
— Не буду читать.
— Нет, прочитай, — сказал Сашка, отворачиваясь от меня. — Я тебя очень прошу. Так надо. Я не хочу, чтобы ты подумал…
— Брось, Сашка, ничего я не думаю. Давай, брат, неси бдительно службу.
Только этого мне и не хватало — читать его письма к Зое. Особенно сейчас, когда зуб болит совсем по-сумасшедшему.
— Тогда я сам тебе расскажу… Я ей про себя написал. Как жил, как отец над нами с матерью измывался.
— Не надо, Сашка, — тихо сказал я. — Не надо. Я знаю.
Должно быть, он хотел спросить, откуда я знаю, но промолчал. Я хлопнул его по спине. Сейчас я все-таки уйду. Зачем мне подробности? Сашка и так, наверное, разбередил себе душу, когда писал Зойке.
* * *
Долго не мог заснуть, дышал в подушку и быстро накрывал щекой нагретое место, потом попробовал тереть щеку — еще хуже. И проснулся тоже от зубной боли. Очевидно, уже было утро: рядом похрапывал Костька, из угла доносилось сонное бормотание Леньки.
Сил моих больше не было. Но я знал, что делать. Сейчас я пойду на прожекторную, в гараж. Там, на полке, стоит канистра с эмульсией, которой мы очищаем отражатель прожектора. Спирт с мелом. Попробую подержать во рту. Мел — штука безвредная; во втором или третьем классе я на спор съел целую палочку, и со мной ничего не случилось.
В гараже никого не оказалось. Кружку я прихватил с собой и налил туда белой, похожей на молоко, жидкости. Рот обожгло сразу, но сразу же притихла и боль. Словно испугалась. Для меня эта боль была уже чем-то совершенно самостоятельным, вроде маленького зверька, который рыл себе нору. И вот зверек затих.
Если попробовать еще раз, и еще, может, он и вовсе сдохнет. Все-таки спирт, что ни говори.
Я отхлебывал из кружки эмульсию, склоняя голову, чтобы она попадала на зуб, а потом начинал плевать за дверь. Кроме мела, там, наверно, было намешано что-то еще. Во рту у меня стало противно и жгло, будто я сжевал стручок перца. Но боль утихла! Ага, попался, зверек! Я даже потрогал зуб онемевшим языком — не болит! Попрыгал на одной ноге — не болит! А теперь — домой, и сейчас я съем две тарелки картошки с тушенкой, потому что вчера совсем ничего не мог есть…
Возле дома воткнутые в сугроб стояли две пары лыж и детские санки со «спинкой». Откуда у нас детские санки? Я открыл дверь, вошел в первую комнату и увидел старшего лейтенанта.
Начальник заставы уже сидел за столом и пил чай, а Сырцов возился возле печки. Здесь же был еще один незнакомый солдат, белесый, с белыми ресницами и красным, как помидор, лицом. «С мороза», — догадался я. Он пришел со старшим лейтенантом. А на санках они привезли почту. И книги. Пачка книг лежала на подоконнике.
— Разрешите войти?
— Входите, входите, Соколов. Только тише — товарищи спят.
— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант.
Он кивнул, продолжая шумно прихлебывать чай.
Я незаметно оглядел комнату. Вот он, брезентовый мешок, стоит в углу, как наказанный мальчишка. Старший лейтенант все-таки заметил, что я шарю глазами по комнате, и засмеялся:
— Садитесь, разбирайте почту. Вам, кажется, штук десять писем.
У меня от нетерпения не слушались руки, и я не сразу сумел развязать веревку. Никак не мог найти, за какой конец потянуть. Путался и не замечал, что начальник заставы перестал прихлебывать чай.
— Товарищ Соколов…
— Я сейчас… Вот ведь как завязали!
— А ну-ка, нагнитесь ко мне.
— Что?
— Нагнитесь и дыхните.
Я нагнулся, дыхнул — и обомлел. Все сошлось! И то, что от меня разило спиртом, и то, что я не мог развязать веревку. Старший лейтенант медленно встал, и я тоже встал, судорожно сжимая в руке мешок с долгожданными письмами.
— Так, — сказал начальник заставы. — Что же у вас происходит, товарищ сержант!
Сырцов быстро поднялся с корточек и удивленно поглядел на старшего лейтенанта. Он еще ничего не понимал. А что именно происходит?
— Дыхните, Соколов.
— Товарищ старший лейтенант…
— Дыхните, дыхните, не стесняйтесь! Что пили-то хоть? Один или в компании?
— А ну, — с яростью прошептал Сырцов, придвинувшись ко мне вплотную. — Ты что же делаешь? Откуда взял?
Мне стало так обидно, что я решил даже не оправдываться. Все равно не поверят. Будь что будет.
— Сбегал в соседний гастроном, — сказал я. — Знаешь, за углом налево.
Сырцов отодвинулся и начал медленно бледнеть, а челюсть-ящик полезла вперед. Начальник заставы все глядел и глядел на меня, а я ответил тем же: смотрел ему в глаза, как будто играл в «мигалки». Видимо, до него что-то дошло.
— Получил вино в посылке?
— Не было у него в посылке вина, товарищ старший лейтенант, — сказал Сырцов. — Это я точно знаю.
— Только закуска, — подтвердил я. Теперь-то мне нечего было терять. Я мог говорить что угодно. Все равно отвечать.
— Что же вы пили?
— Ничего. У меня три дня зуб болел. Я рот эмульсией прополоскал, вот и все.
— Эмульсией? — переспросил начальник заставы.
— Честное комсомольское, — сказал я.
— Комсомольское, говорите?
— Это точно, товарищ старший лейтенант, — сказал Сырцов. — Три дня с зубом мучается. А в эмульсии спирт, — он повернулся ко мне: — Ну а потом, когда прополоскал, выплюнул эмульсию или проглотил?
— Глотай сам, — сказал я. — Дураков нет.
— Как вы разговариваете с сержантом, товарищ Соколов?
Но теперь я знал твердо — поверили. Сырцов буркнул:
— Ладно, извини. А эмульсия, между прочим, не для тебя, а для прожектора.
Старший лейтенант кивнул и взял свою кружку.
— Три наряда вне очереди, когда поправится! За эмульсию и за разговоры.
* * *
Старший лейтенант пробыл у нас день, проверял «Пограничную книгу», расписание нарядов, полночи провел на прожекторной, а под утро приказал мне собраться. Я не стал задавать вопросы, я знаю, чем это пахнет. Сырцов успел шепнуть мне — пойдешь на заставу, оттуда — в город, к врачу. Конечно, если б не те три наряда, я бы поспорил. Сказал бы, что зуб пройдет сам собой. А сейчас я вытащил из кладовки лыжи и палки и ждал, когда начальник заставы кончит свои дела.
Вот тогда, впервые после нашей ссоры, ко мне подошел Костька:
— Прихватишь сигарет?
— Прихвачу. Больше ничего не надо?
— Ничего, — он помолчал и усмехнулся: — Ну разве что пол-литра.
— Не пойдет.
— Тебе можно, а мне нельзя? Нехорошо. Хорошо только, что мы с тобой квиты.
— В чем же?
— Брось, — сказал Костька. — Я ведь тоже не пойду и не щелкну на тебя. Думаешь, я поверил, что ты эмульсией рот полоскал? А придумал ты лихо!
Кто мог рассказать Костьке об истории с эмульсией? Ведь все еще спали. Сырцов? Вряд ли.
— Этот, с заставы, — объяснил Костька. — Дубоватый парень, Ложков. Ну а честно — что пил?
Я не стал его разубеждать. Зачем?
Вышел старший лейтенант и начал надевать лыжи.
— Пока, — сказал я ребятам. Они глядели на меня тоскливыми глазами, потому что сегодня я буду в городе, увижу машины, дома, людей, может, даже схожу в кино, и цена всему этому счастью один вырванный зуб. Я смогу даже зайти в кафе и просадить там трешницу на лимонад и мороженое. Наверно, если бы уходил не я, а кто-нибудь другой, у меня тоже были бы такие тоскующие, до краев наполненные черной завистью глаза.
— Пока, — сказал Сырцов. — Смотри там…
— Будь. Мы пошли.
Старший лейтенант шел впереди, далеко выкидывая палки. Шаг у него был легкий, стремительный, и мы с Ложковым быстро отстали.
— Ты не гонись за ним, — хрипло сказал мне Ложков. — Чего с пупа-то рвать? Он мастер спорта, а мы с тобой любители.
Ложков шел сзади меня и тащил санки.
Минут через сорок я обернулся. Остров был уже далеко, и дом не виден. — я разглядел только верхушки сосен и вышку, и вдруг мне стало как-то не по себе от того, что я ухожу дня на два или три, и эти два или три дня ребята будут делать мою работу. Будут меньше спать и больше уставать, и все потому, что у Владимира Соколова, видите ли, зубик заболел.
— Давай посидим на саночках, — обрадовался Ложков. — Нам с тобой не на олимпиаду ехать.
— Идем, — сказал я. — Вот получим пенсию, тогда посидим.
Я должен был спешить. Хорошо бы завтра вернуться на прожекторную. И никаких там кафе в городе, никаких кино. Тогда вполне успею вернуться к завтрашнему вечеру.
Резче взмахиваю палками, отталкиваюсь и начинаю нагонять старшего лейтенанта. Ложков плетется уже далеко позади.
…Фамилия нашего старшего лейтенанта Ивлев. Мы почти не знаем его: ведь на заставе прожили неделю, а к нам он вообще не приезжал ни разу. Говорят, был на сборах. Он действительно мастер спорта. А что за человек — неизвестно.
Правда, о старшем лейтенанте Ивлеве я читал большую статью в газете «Пограничник». Это было еще там, на учебном пункте, до того, как мы прибыли на заставу. В статье рассказывалось, как здорово он организовал физподготовку. Но на фотографии он был почему-то со своими детьми-двойняшками — сыном и дочкой. И сейчас Ложков тянет за собой их санки.
Вот и все, что я знал о старшем лейтенанте Ивлеве.
Он шел, не оборачиваясь, будто вообще забыв о нашем существовании. У меня же опять разболелся зуб, и я спешил за начальником заставы вовсе не из спортивного интереса. Скорей бы добраться до госпиталя. Бежать было жарко, я сдвинул шапку на самый затылок и расстегнул куртку. Зачем старшему лейтенанту понадобилось идти пешком? Я же видел — на заставе есть аэросани. Вполне мог приехать на них. Или боится, что лед еще не окреп?
Старший лейтенант наконец-то обернулся и встал, поджидая меня.
— А вы ничего ходите, — сказал он. — Учились где-нибудь?
— Самоучка, товарищ старший лейтенант.
Он прищурился, словно прикидывая что-то в уме.
— Хорошо, учтем этот ваш талант.
И опять мне стало не по себе. А ну как начнут меня посылать на всяческие соревнования или кроссы? Надо было послушаться Ложкова и не «рвать с пупка». Теперь уже поздно. Теперь в глазах начальника заставы я талант… А Ложков плелся где-то далеко-далеко, и у него не было никаких талантов, кроме, пожалуй, одного — сачковать. Мне стало смешно и немножко жалко Ложкова, когда старший лейтенант, нетерпеливо поглядывая в его сторону, сказал, совсем как Волк из мультфильма:
— Ну, Ложков, — погоди!..
* * *
Как ни хотелось мне скорее вернуться домой, на прожекторную, все получилось иначе. Зуб — ерунда. Вытащить его оказалось минутным делом. И попутная машина из отряда была. И в кино не зашел — только просмотрел афиши: «Лев зимой», «Золотые рога», «Джен Эйр».
Единственное, что успел сделать, — это забежать на почту и позвонить домой, в Ленинград. Девушка, принимавшая заказ, строго сказала: «Разговор в течение часа». Должно быть, у меня было страдальческое лицо, потому что она снова сняла трубку и сказала кому-то: «Понимаешь, здесь солдат звонит, дай побыстрей». Я ждал и гадал: дома мои или еще не вернулись? Обидно, если задержались где-нибудь. Мать могла пойти в магазин, у Колянича вечные собрания и заседания. Но, видимо, есть пограничный бог. Трубку подняла мама.
— Кто это?
— Вот тебе и на! Я, Володя.
— Володя?
Она замолчала; в трубке что-то потрескивало и попискивало; мне показалось — разъединили.
— Мама, это я. Ты слышишь?
— Слышу, Володенька.
И тут же раздался голос Колянича:
— Володька, мать в трансе. Как живешь?
— Нормально. Как вы?
— Ну, поскольку ты охраняешь нас, — отлично. Здоров?
Трубку вырвала мама:
— Володенька, ты почему так долго не писал?
— Обстановка такая.
— Что такая?
— Обстановка, говорю, была. А ты чего ревешь?
— Я не реву.
— Ревет, — вырвал у нее трубку Колянич. — Уже ковер поплыл и мои ботинки. Тут к нам одна твоя знакомая строительница приходила, тоже волновалась, что нет писем.
— Обстановка, — сказал я. — Как вы?
— Я же сказал — все хорошо.
— Ну и у меня все хорошо.
— Володенька, — хлюпнула в трубку мама. — Как ты себя чувствуешь?
— Нормально.
— Кончайте разговор, — вмешался чей-то голос. — Ваше время истекло.
На всякий случай, я сказал несколько раз «алло, алло», но трубка молчала. Все. Поговорили, называется.
На заставе я зашел в канцелярию — доложиться старшему лейтенанту; он сказал:
— Поживите у нас денька два.
— Товарищ старший лейтенант, там же без меня…
— Вы, кажется, собираетесь спорить со мной?
— Нет.
— Ну вот и хорошо.
«Денька два» — это значит, до самого Нового года. А я-то накупил ребятам конфет, полтора кило шоколадной смеси. Получат уже после Нового года. Жаль! И, конечно, не дело, что я буду болтаться эти два дня на заставе. «Некому тебя сопровождать, — объяснил мне Ложков. — А одного не пустят». — «А ваши аэросани?» Оказывается, у саней была сломана лыжа. В первый же выезд водитель (совершенный лопух!) наскочил на ропак, и лыжа разлетелась, как стеклянная. Сейчас чинят. «А чего тебе? Отсыпайся, — сказал Ложков. — Солдат спит, служба идет, все законно». Я мог спать сколько угодно и не спал.
Значит, Зойка заходила к моим! Волновалась, что нет писем. Стало быть, она ждет мои письма, а раз волнуется… Голова у меня шла кругом. Я засел в ленинской комнате и сочинил ей огромное письмище. «Почти все свободное время я думаю о тебе, — написал я. — И даже представлял себе, что если бы мы оказались здесь. Места у нас красивые… (Дальше шло описание природы.) А если один человек все время думает о другом, это что-то значит». Я все время намекал и намекал. Должна понять, не глупенькая. «Не волнуйся, если снова долго не будет писем. Служба у нас такая». И в самом конце приписал: «Получила ли послание Сашки Головни? Знаешь, у него действительно тяжелая жизненная история, пусть твои девчонки напишут ему». Это была, конечно, хитрость. Мне не хотелось, чтоб ему писала сама Зойка. «Как понравились тебе мои родители?»
Мне было легко и спокойно. Зуб не болел. Ленинградский СКА выиграл у «Химика» — я смотрел матч по телевизору. Зойка волнуется из-за меня так, что даже отважилась прийти к моим. Все в жизни хорошо. Даже то, что два дня я отрабатываю свои три наряда вне очереди: расчищаю от снега дорожки, посыпаю их песком, таскаю мишени на стрельбище.
— Соколов, к начальнику заставы!
Я бросил работу и выжал стометровку с рекордным временем. Старший лейтенант ждал меня в коридоре заставы. Он был в лыжном костюме, и поэтому я не сразу узнал его.
— Вы готовы?
— Всегда готов, — ответил я.
Ивлев прищурился.
— Тогда надевайте лыжи и пошли.
— Разрешите только конфеты взять?
— Какие еще конфеты?
— Ребятам на Новый год купил.
— А-а, берите. Только скорее. И вот вам маскхалат. Я взял у него белый сверток, не понимая, на кой черт мне этот маскхалат. Смеркалось, и я совсем перестал что-либо понимать. Почему нужно идти в темноте? Неужели начальнику заставы так уж хочется встретить Новый год с нами? У него же семья здесь. Я сам вылепил роскошную снежную бабу для его ребятишек.
…Мы идем быстро, и я не отстаю от старшего лейтенанта. Потом я замечаю, что мы идем вроде бы совсем не в ту сторону. Кончилась лыжня, старший лейтенант шагает по снежной целине. Мне легче идти за ним. Морозец не очень крепкий, градусов десять, но за начальником заставы вьется легкий пар. Конечно, топать по целине куда хуже; скоро от него дым повалит, а не пар, если идти вот так, все дальше и дальше — в замерзшее море.
Хорошо, что я ни о чем не спросил его. Все и так ясно. Мы дадим здоровенного кругаля, спрячемся за островом, потом наденем маскхалаты и будем «нарушать границу». Время старший лейтенант выбрал, конечно, самое подходящее — новогодняя ночь. «А ведь молодчина! — подумал я. — Где бы посидеть дома, как положено нормальным людям, шагает за добрых двадцать километров». — Это я прикинул в уме. Но, может быть, и не двадцать, а двадцать с лишним, потому что к маленькому островку мы должны подойти тоже скрытно.
— Устал?
— Есть малость.
— Три минуты.
Мы стоим три минуты, переводя дыхание, и пар вьется над нами.
— Угостил бы конфеткой, что ли?
— Пожалуйста.
Конфеты у меня распиханы по карманам. Мы съедаем по одной и закусываем снегом.
— Пошли.
Только бы не подвели ребята. Я пытаюсь сообразить, кто будет сегодня на вышке и кто — на прожекторе, но это нелепо — гадать, из-за меня Сырцов перекроил график нарядов. Только бы смотрели лучше. Может, мне как-то удастся… Нет. Мне ничего не удастся. Старший лейтенант заметит, и тогда от рядового Владимира Соколова полетят пух и перья. Только бы они смотрели лучше! Я иду и думаю, что есть на свете телепатия. Сам читал. Надо только сосредоточиться и все время передавать: «Смотрите лучше — мы идем. Смотрите лучше — мы идем». Я буду передавать Сырцову.
Я представляю себе его лицо со здоровенной челюстью смотрю в его глаза и медленно в такт шагам, повторяю: «Смотрите… лучше… мы… идем…»
Времени нет. Оно словно бы остановилось здесь, в снежном море. Сколько мы прошли и сколько еще шагать? Я устал, это замечаю по тому, что старший лейтенант уходит вперед. «Ты, мастер спорта, должен же ты понять, что я устал? — непочтительно думаю я. — Ну остановись, дай человеку передохнуть малость. А за это конфетку дам». Он не останавливается. Светит луна, и длинная тень начальника заставы все удаляется, удаляется от меня. Ничего не выходит из моей телепатии. «Остановись!» — он идет. «Остановись!» — он не останавливается.
Не хватает только упасть. Замерзну как цуцик, и если старший лейтенант дотащит меня, то уже в виде сосульки. Я взмахиваю палками. Нет, еще рано падать. Еще можно идти, хотя бы на этих трясущихся ногах. Тень старшего лейтенанта начинает приближаться. Или он замедлил шаг, или я начал догонять его. Одно из двух. Скорее всего он тоже устал. Мастера спорта тоже не из железа.
— Три минуты.
— И конфетку?
— Нет, спасибо. Надевай маскхалат.
И только тогда я замечаю, что мы уже за островом. Пот из-под шапки заливает мне лицо. Но вот он, островок; на голубом фоне острые пики елок, темные валуны со снежными шапками. До меня не сразу доходит, что голубой фон — это свет нашего прожектора. Свет меркнет, смещается в сторону — островок исчезает.
— Вперед!
У меня уже не дрожат ноги. Я иду за старшим лейтенантом почти вплотную. Островок слева. Мы обходим его — и вперед, вперед… «Смотрите… лучше… мы… идем…» Ну чего же они там? Почему не включают прожектор? Спят они все, что ли?
— Ложись и не двигайся. Вот он!
Голубой свет вспыхивает так неожиданно, что я не сразу успеваю повалиться в снег.
— Не двигайся, — с угрозой повторяет старший лейтенант. Он смотрит на меня. Думает, что я как-нибудь демаскируюсь. Все-таки там — свои ребята.
Свет уходит: нас не обнаружили.
— Вперед!
Мы бежим, бежим изо всех сил. И вдруг облако света обрушивается на нас; свет бьет в глаза, свет со всех сторон.
— Назад!
Теперь прожектор светит нам в спину. Мы уходим, убегаем от него; я не вижу ракет, которые пускают с вышки: сигнал тревоги «Прорыв со стороны границы». Но я знаю, что ракеты уже пущены и на соседних заставах нас увидели.
— Скорей, скорее!
«Куда же он? — думаю я на ходу. — Долго он будет таскать меня по снегу?» Когда я падал, снег набился в рукава, попал за шиворот — и теперь по груди и животу ползут холодные струйки воды. А все-таки нас обнаружили! Нашли, черт возьми! Свет не отпускает нас, мы по-прежнему в луче прожектора. Я догадываюсь, старший лейтенант хочет снова спрятаться за островком, переждать.
Так и есть.
Мы тяжело дышим и смеемся. Стоим и оба смеемся, потому что нам не удалось пройти.
— Сейчас будет самое интересное, — говорит старший лейтенант. — А пока давай по конфетке, если не жалко.
— Не жалко.
— «Южная ночь», — говорит он, разжевывая конфету. — Мои любимые. Устал здорово?
— Здорово.
— Тебе надо подучиться. Вполне можешь сдать на разряд.
— Некогда.
— Ты, наверно, ленив малость?
— Малость ленив, — соглашаюсь я.
— Тогда ничего не получится. Ага, едут!
Я еще ничего не слышу. Приходится задрать опущенное «ухо» шапки, и тогда явственно доносится далекий рокот мотора. Только я не могу определить, с какой стороны. Звук слышен то справа, то слева, он мечется по всей снежной целине.
— Пошли.
— Товарищ старший лейтенант…
— Нечего стоять. Замерзнешь.
Легко, будто бы и не было позади двух десятков километров, он снова скользит по снегу. Мы уходим в открытое море. Островок-укрытие остается за спиной.
— Смотрите!
Издали к нам приближается разлапистое чудище с двумя горящими глазами-фарами. Гул мотора нарастает. Я оборачиваюсь — с другой стороны на нас идет другое такое же чудовище, и мне становится жутковато.
— Все, — втыкает палки в снег мой начальник заставы. — Не рыпайся и поднимай лапки вверх. Ну, быстро.
Поднимаю руки. Аэросани светят нам в лицо своими глазищами-фарами. Солдаты выпрыгивают в снег, различаю лишь силуэты, но зато явственно слышу остервенелый собачий лай. А ну как сорвется собачка с поводка? Как ей тогда докажешь, что я вовсе не иностранный шпион и даже не нарушитель пограничного режима, а самый что ни на есть свой? И я бочком, бочком прячусь на всякий случай за спину старшего лейтенанта.
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
Из окружной газеты «Пограничник» «В новогоднюю ночь»
«Эта ночь надолго запомнится личному составу застав, которыми командуют офицеры тт. Ивлев и Одинцов. По приказу командования в новогоднюю ночь здесь было проведено условное нарушение границы. Для этого начальнику заставы, мастеру спорта СССР т. Ивлеву и опытному лыжнику, отличному воину рядовому Соколову пришлось пройти более двадцати километров, чтобы внезапно появиться в районе прожекторной позиции. Тщательно маскируясь, они начали приближаться к берегу…
Но расчет во главе с сержантом Сырцовым обнаружил «нарушителей» при первом же поиске. При этом сержанту удалось перехитрить «нарушителей». Сначала, когда те залегли, он приказал перенести луч, чтобы «нарушители» подумали, будто остались незамеченными. Сержант рассчитал точно. Когда «нарушители» подошли ближе, их высветили прожектором. Подоспевшие с соседних застав тревожные группы «захватили» «нарушителей». Четко и слаженно действовали наши пограничники.
За успешное выполнение учений командование объявило благодарность всему расчету прожектористов. Особо отмечен рядовой Соколов».
…А тогда, когда мы ввалились в дом, Костька разочарованно сказал:
— Ну, за него медаль не получишь.
— Не получишь, — согласился я.
Кружку горячего чаю и спать, спать, спать! Старший лейтенант укатил на аэросанях домой, на заставу, приказав Сырцову дать мне сутки отдыха. Сырцов не то удивленно, не то радостно рассказывал:
— Понимаешь, у меня со вчерашнего вечера было какое-то чувство…
— Телепатия, — сказал я. — Точно! Не веришь? Я, когда с начальником заставы шел, все время о тебе думал. Шел и талдычил про себя: «Смотри лучше». Значит, удалось.
— Скажи на милость!
— Точно, телепатия, — сказал Костька. — У меня сигареты как раз кончились. Скучаю и думаю: «Сегодня Володька принесет».
Негнущимися пальцами я выгребаю из всех карманов курево и конфеты. Горка конфет лежит на столе. Я выбираю себе «Южную ночь». На фантике — Черное море, пальмы, луна. Никогда не был там.
— Ну, как тут у нас?
— Порядок.
Если порядок, могу наконец-то лечь. Иду, пошатываясь. Голова не успевает коснуться подушки, и последнее, что помню, — это пальмы, вода и на воде две луны сразу. Проваливаюсь в сон, еще пытаясь сообразить, почему две луны, ведь так не бывает, да это не луны вовсе, а фары аэросаней, ну а то, что сани шпарят не по снегу, а прямо по воде, — не имеет ровно никакого значения.
Живая полоса
Вырезку из окружной газеты я, разумеется, послал домой, а в письме как можно ехидней заметил: «Вот чем занимался я, пока вы там праздновали Новый год и попивали шампанское». Правда, Колянич мог ответить, что Соколовых на границе — пруд пруди и, может, пока они пили шампанское, я мирно похрапывал. Он ведь тоже умел быть ехидным, Колянич.
Но я ходил праздничный. После поездки в город, разговора по телефону, когда узнал, что приходила Зоя, после тяжелого перехода и этой заметки меня не покидало чувство полного удовлетворения самим собой и жизнью вообще. Все вокруг меня были удивительно славными. Даже Костька. Я спросил Сырцова — как он, и сержант сказал — порядок.
Книги, которые привез на саночках старший лейтенант, тоже помогли. Мы читали запоем, читали каждую свободную минуту — никогда прежде я не читал так много и с такой жадностью.
Через неделю мы с Костькой оказались в наряде на прожекторной. Видимо, Сырцов решил, что нас можно снова посылать на пару. Костька спросил:
— Ну как там, в городе?
— Ничего. Дома стоят. Окошки светятся.
— Городок-то неважнец, — сказал Костька. — Провинция. Приходилось бывать еще до службы. А сейчас и там согласился бы пожить.
— Соскучился?
— А ты не соскучился? Я сплю и во сне вижу эти окошки. И еще машины.
— И девочек, — в тон ему сказал я.
— И девочек, — подтвердил Костька. — Не выдержать мне здесь. Буду писать рапорт. Пусть ругают.
— Вообще-то ты зря, Костька, — сказал я. — Ну, трудно, понимаю, так ведь надо.
— Брось, — сказал Костька. — Ты все это с чужих слов говоришь. «Надо, надо…» Условия учитывать надо. Леньке деревенскому здесь лафа. Сырцов — лесоруб, вырос в лесу, ему здесь тоже не дует. А мы с тобой — городские, у нас городская жизнь в крови. Я ж не против службы, не баптист какой-нибудь, но городские должны служить в городе.
Я подумал, что Костька скис. Ненадолго же его хватило. Если он напишет рапорт о переводе — неприятностей, конечно, ему не обобраться. Но почему мне, тоже городскому, такое не приходило в голову? Я тоже люблю город, люблю Ленинград, но раз надо — я здесь и никуда уже не денусь до конца службы.
— Знаешь, — сказал я Костьке, — когда мы с начальником заставы шли, я почувствовал — все! Не могу! Упаду и не встану. А потом подумал — слабак ты сопливый, — и пошел, и пошел. Второе дыхание называется. Может, ты сейчас перед вторым дыханием?
— Чепуха, — усмехнулся Костька. — Все дело в духовных запросах, сам понимаешь.
Короткевич как-то осекся, но я не стал допытываться, что именно он имел в виду. Пора было работать. Я просигналил в «машинное», чтоб Эрих запускал дизель, и вспомнил об этих «духовных запросах», только когда вырубил ток и погасил прожектор. Костька мялся, увиливал. Я чувствовал это.
— Ты, Костька, на людей бросаешься. Умней других себя считаешь, вот что.
— А если так оно и есть?
— Ого!
— Зато откровенно. Можешь подбросить нашему комсгрупоргу тему для очередного комсомольского собрания.
Он говорил о Леньке. На днях мы избрали его комсгрупоргом. Ничего, справится.
Больше мы с Костькой ни о чем не разговаривали. Видимо, он понял, что я ему не поддержка. А я думал, что Костька рано или поздно снова сорвется. Нельзя жить с таким настроением.
Чтобы больше не разговаривать, я, выключая прожектор, уходил к Эриху. В «машинном» было тепло, даже жарко. Эрих был без куртки, в одной гимнастерке с расстегнутым воротником и закатанными рукавами, чтобы не испачкать. И снова мне казалось, что это — вовсе не солдат, а артист, которого одели в солдатскую форму, и он здорово играет эту роль.
— Холодно, погреюсь у тебя.
— Грейся.
Он внимательно поглядел на меня, и я понял, что Эрих уже догадался обо всем. Странно, мне всегда кажется, что Эрих знает все. Может быть, потому, что он молчит, и разговорить его трудно.
— Слушай, — сказал я. — Ты очень скучаешь по дому или не очень?
Он пожал плечами. Это могло означать: «Нелепый вопрос», или «Как сказать», или «Так себе». Понимай как хочешь. Я настаивал. Мне нужно было знать точно. Я знал все о себе самом. Конечно, солдат всегда скучает по дому. Ничего плохого в этом нет. Не скучал только Сашка. Тоже понятно. А Эрих?
— Мы люди, — сказал он.
— Об этом я и раньше как-то догадывался, — сказал я. — Ну и что из того, что мы люди?
— Человек над собой хозяин.
— Ты прямо скажи.
— Можно очень скучать. Можно не очень. Как скажешь себе.
— Гигант! — восхитился я. — Стальной человек! Эрих промолчал. Конечно, это он здорово изрек.
Значит, он собрался, как пружина, на два года, приказал сам себе — не скучать, и никаких проблем. Я даже любовался им.
— Ты нарочно закалял волю или так — само собой?
— Само собой. Без воли нельзя.
— А я закалял, — вздохнул я. — Однажды на крышу полез, на девятый этаж, и прошел по самому краю.
— Глупо, — сказал Эрих.
— Конечно, глупо. Сверзился бы — и в лепешку.
— Я тонул, — сказал Эрих, и мне показалось, что он оказался где-то далеко-далеко в своих воспоминаниях. — Мальчишка, лодку угнал… Пограничники спасли. Когда призвали на службу — попросился в пограничники.
Это было совсем другое дело! Значит, у него все в полном порядке.
А под утро случилась беда: сгорел держатель третьего электрода. Я побежал за Сырцовым. В кладовке мы перерыли все запасные части — держателя не было. Теперь придется зажигать дугу вручную. Хорошо, если держатели есть на заставе, — а если нет? Придется ждать, когда пришлют.
— Может, отлить заготовку? — неуверенно сказал я.
— А в чем расплавишь металл? В печке?
«Конечно, дохлое дело, — подумал я. — Конструкция держателя несложная, но для отливки нужна форма…» Сырцов угрюмо копался в ящике со всяким металлическим барахлом. Чего-чего там только не было — начиная от ржавых гвоздей и кончая старыми позеленевшими блеснами. Даже елочный «дождь». (Я на всякий случай вытащил его. Мама чистит таким «дождем» посуду. Очень удобно.)
— Погоди, — сказал я. — Где у нас напильники?
— Здесь. А что?
— Может, найдем какую-нибудь бронзовую болванку?
Сырцов понял. Он опрокинул весь ящик, и мы начали рыться вдвоем.
— А ты сможешь?
— Попробую, — сказал я. — Отец когда-то учил.
Колянич действительно учил меня работать с напильником. На нашем садовом участке был сарай-мастерская. Колянич все делал сам. А я вертелся возле него и просил «попробовать». Почему бы не попробовать сейчас?
— Вот, — сказал Сырцов. — Вроде бронза. Ты постарайся, Володька. Сам понимаешь.
Я провел напильником по темной поверхности металла, и вдруг из-под нее вырвалась яркая, совсем золотая полоска. Бронза! Верстак можно сделать запросто. Я соображал, чем просверлить отверстия для электрода и зажимного винта. Дрели у нас, конечно, нет. Попробую пробивать и растягивать круглым напильником.
Работать я ушел в «машинное» — там было и свободнее, и ребятам не мешал спать. Время снова как бы остановилось. Иногда открывалась дверь и входил то Сырцов, то Ленька, то Сашка Головня, то Эрих.
— Может, помочь?
— Сам.
— Вроде получается.
— Вроде.
Я работал со страхом. Вторую такую болванку не найти. Какое там «семь раз отмерь». Я отмерял по двадцать раз и только тогда трогал напильником мягкий, податливый металл.
…Металлическая пыль росла горкой. Вот так, по пылинке, я снял с бронзовой болванки все лишнее — и получился держатель. Теперь-то я видел, что он получился. Он был теплый, блестящий; я подбрасывал его на ладони и сам удивлялся тому, как, в общем-то, все это очень просто.
Устанавливал держатель сам Сырцов.
— Ничего, — сказал он.
— Все-таки рабочий класс, — согласился я.
— Ленька предложил: если получится — еще одну благодарность тебе объявить.
— Валяй, — кивнул я. — Или нет, лучше не надо. Лучше в следующий раз ты мне наряд вне очереди не сунешь.
— Ну, давай так.
— Спасибо, отец.
— Что?
— Спасибо, говорю.
— Считай, что труд оплачен, — улыбнулся Сырцов, — и я отменяю один наряд вне очереди.
Он протянул мне руку и больно пожал мою — пальцы-то все-таки были в ссадинах.
Я снова ходил праздничный. К поездке в город, и телефонному разговору, и заметке в газете прибавилось что-то еще очень приятное.
«Эта ночь надолго запомнится личному составу застав, которыми командуют офицеры тт. Ивлев и Одинцов. По приказу командования в новогоднюю ночь здесь было проведено условное нарушение границы. Для этого начальнику заставы, мастеру спорта СССР т. Ивлеву и опытному лыжнику, отличному воину рядовому Соколову пришлось пройти более двадцати километров, чтобы внезапно появиться в районе прожекторной позиции. Тщательно маскируясь, они начали приближаться к берегу…
Но расчет во главе с сержантом Сырцовым обнаружил «нарушителей» при первом же поиске. При этом сержанту удалось перехитрить «нарушителей». Сначала, когда те залегли, он приказал перенести луч, чтобы «нарушители» подумали, будто остались незамеченными. Сержант рассчитал точно. Когда «нарушители» подошли ближе, их высветили прожектором. Подоспевшие с соседних застав тревожные группы «захватили» «нарушителей». Четко и слаженно действовали наши пограничники.
За успешное выполнение учений командование объявило благодарность всему расчету прожектористов. Особо отмечен рядовой Соколов».
…А тогда, когда мы ввалились в дом, Костька разочарованно сказал:
— Ну, за него медаль не получишь.
— Не получишь, — согласился я.
Кружку горячего чаю и спать, спать, спать! Старший лейтенант укатил на аэросанях домой, на заставу, приказав Сырцову дать мне сутки отдыха. Сырцов не то удивленно, не то радостно рассказывал:
— Понимаешь, у меня со вчерашнего вечера было какое-то чувство…
— Телепатия, — сказал я. — Точно! Не веришь? Я, когда с начальником заставы шел, все время о тебе думал. Шел и талдычил про себя: «Смотри лучше». Значит, удалось.
— Скажи на милость!
— Точно, телепатия, — сказал Костька. — У меня сигареты как раз кончились. Скучаю и думаю: «Сегодня Володька принесет».
Негнущимися пальцами я выгребаю из всех карманов курево и конфеты. Горка конфет лежит на столе. Я выбираю себе «Южную ночь». На фантике — Черное море, пальмы, луна. Никогда не был там.
— Ну, как тут у нас?
— Порядок.
Если порядок, могу наконец-то лечь. Иду, пошатываясь. Голова не успевает коснуться подушки, и последнее, что помню, — это пальмы, вода и на воде две луны сразу. Проваливаюсь в сон, еще пытаясь сообразить, почему две луны, ведь так не бывает, да это не луны вовсе, а фары аэросаней, ну а то, что сани шпарят не по снегу, а прямо по воде, — не имеет ровно никакого значения.
Живая полоса
Вырезку из окружной газеты я, разумеется, послал домой, а в письме как можно ехидней заметил: «Вот чем занимался я, пока вы там праздновали Новый год и попивали шампанское». Правда, Колянич мог ответить, что Соколовых на границе — пруд пруди и, может, пока они пили шампанское, я мирно похрапывал. Он ведь тоже умел быть ехидным, Колянич.
Но я ходил праздничный. После поездки в город, разговора по телефону, когда узнал, что приходила Зоя, после тяжелого перехода и этой заметки меня не покидало чувство полного удовлетворения самим собой и жизнью вообще. Все вокруг меня были удивительно славными. Даже Костька. Я спросил Сырцова — как он, и сержант сказал — порядок.
Книги, которые привез на саночках старший лейтенант, тоже помогли. Мы читали запоем, читали каждую свободную минуту — никогда прежде я не читал так много и с такой жадностью.
Через неделю мы с Костькой оказались в наряде на прожекторной. Видимо, Сырцов решил, что нас можно снова посылать на пару. Костька спросил:
— Ну как там, в городе?
— Ничего. Дома стоят. Окошки светятся.
— Городок-то неважнец, — сказал Костька. — Провинция. Приходилось бывать еще до службы. А сейчас и там согласился бы пожить.
— Соскучился?
— А ты не соскучился? Я сплю и во сне вижу эти окошки. И еще машины.
— И девочек, — в тон ему сказал я.
— И девочек, — подтвердил Костька. — Не выдержать мне здесь. Буду писать рапорт. Пусть ругают.
— Вообще-то ты зря, Костька, — сказал я. — Ну, трудно, понимаю, так ведь надо.
— Брось, — сказал Костька. — Ты все это с чужих слов говоришь. «Надо, надо…» Условия учитывать надо. Леньке деревенскому здесь лафа. Сырцов — лесоруб, вырос в лесу, ему здесь тоже не дует. А мы с тобой — городские, у нас городская жизнь в крови. Я ж не против службы, не баптист какой-нибудь, но городские должны служить в городе.
Я подумал, что Костька скис. Ненадолго же его хватило. Если он напишет рапорт о переводе — неприятностей, конечно, ему не обобраться. Но почему мне, тоже городскому, такое не приходило в голову? Я тоже люблю город, люблю Ленинград, но раз надо — я здесь и никуда уже не денусь до конца службы.
— Знаешь, — сказал я Костьке, — когда мы с начальником заставы шли, я почувствовал — все! Не могу! Упаду и не встану. А потом подумал — слабак ты сопливый, — и пошел, и пошел. Второе дыхание называется. Может, ты сейчас перед вторым дыханием?
— Чепуха, — усмехнулся Костька. — Все дело в духовных запросах, сам понимаешь.
Короткевич как-то осекся, но я не стал допытываться, что именно он имел в виду. Пора было работать. Я просигналил в «машинное», чтоб Эрих запускал дизель, и вспомнил об этих «духовных запросах», только когда вырубил ток и погасил прожектор. Костька мялся, увиливал. Я чувствовал это.
— Ты, Костька, на людей бросаешься. Умней других себя считаешь, вот что.
— А если так оно и есть?
— Ого!
— Зато откровенно. Можешь подбросить нашему комсгрупоргу тему для очередного комсомольского собрания.
Он говорил о Леньке. На днях мы избрали его комсгрупоргом. Ничего, справится.
Больше мы с Костькой ни о чем не разговаривали. Видимо, он понял, что я ему не поддержка. А я думал, что Костька рано или поздно снова сорвется. Нельзя жить с таким настроением.
Чтобы больше не разговаривать, я, выключая прожектор, уходил к Эриху. В «машинном» было тепло, даже жарко. Эрих был без куртки, в одной гимнастерке с расстегнутым воротником и закатанными рукавами, чтобы не испачкать. И снова мне казалось, что это — вовсе не солдат, а артист, которого одели в солдатскую форму, и он здорово играет эту роль.
— Холодно, погреюсь у тебя.
— Грейся.
Он внимательно поглядел на меня, и я понял, что Эрих уже догадался обо всем. Странно, мне всегда кажется, что Эрих знает все. Может быть, потому, что он молчит, и разговорить его трудно.
— Слушай, — сказал я. — Ты очень скучаешь по дому или не очень?
Он пожал плечами. Это могло означать: «Нелепый вопрос», или «Как сказать», или «Так себе». Понимай как хочешь. Я настаивал. Мне нужно было знать точно. Я знал все о себе самом. Конечно, солдат всегда скучает по дому. Ничего плохого в этом нет. Не скучал только Сашка. Тоже понятно. А Эрих?
— Мы люди, — сказал он.
— Об этом я и раньше как-то догадывался, — сказал я. — Ну и что из того, что мы люди?
— Человек над собой хозяин.
— Ты прямо скажи.
— Можно очень скучать. Можно не очень. Как скажешь себе.
— Гигант! — восхитился я. — Стальной человек! Эрих промолчал. Конечно, это он здорово изрек.
Значит, он собрался, как пружина, на два года, приказал сам себе — не скучать, и никаких проблем. Я даже любовался им.
— Ты нарочно закалял волю или так — само собой?
— Само собой. Без воли нельзя.
— А я закалял, — вздохнул я. — Однажды на крышу полез, на девятый этаж, и прошел по самому краю.
— Глупо, — сказал Эрих.
— Конечно, глупо. Сверзился бы — и в лепешку.
— Я тонул, — сказал Эрих, и мне показалось, что он оказался где-то далеко-далеко в своих воспоминаниях. — Мальчишка, лодку угнал… Пограничники спасли. Когда призвали на службу — попросился в пограничники.
Это было совсем другое дело! Значит, у него все в полном порядке.
А под утро случилась беда: сгорел держатель третьего электрода. Я побежал за Сырцовым. В кладовке мы перерыли все запасные части — держателя не было. Теперь придется зажигать дугу вручную. Хорошо, если держатели есть на заставе, — а если нет? Придется ждать, когда пришлют.
— Может, отлить заготовку? — неуверенно сказал я.
— А в чем расплавишь металл? В печке?
«Конечно, дохлое дело, — подумал я. — Конструкция держателя несложная, но для отливки нужна форма…» Сырцов угрюмо копался в ящике со всяким металлическим барахлом. Чего-чего там только не было — начиная от ржавых гвоздей и кончая старыми позеленевшими блеснами. Даже елочный «дождь». (Я на всякий случай вытащил его. Мама чистит таким «дождем» посуду. Очень удобно.)
— Погоди, — сказал я. — Где у нас напильники?
— Здесь. А что?
— Может, найдем какую-нибудь бронзовую болванку?
Сырцов понял. Он опрокинул весь ящик, и мы начали рыться вдвоем.
— А ты сможешь?
— Попробую, — сказал я. — Отец когда-то учил.
Колянич действительно учил меня работать с напильником. На нашем садовом участке был сарай-мастерская. Колянич все делал сам. А я вертелся возле него и просил «попробовать». Почему бы не попробовать сейчас?
— Вот, — сказал Сырцов. — Вроде бронза. Ты постарайся, Володька. Сам понимаешь.
Я провел напильником по темной поверхности металла, и вдруг из-под нее вырвалась яркая, совсем золотая полоска. Бронза! Верстак можно сделать запросто. Я соображал, чем просверлить отверстия для электрода и зажимного винта. Дрели у нас, конечно, нет. Попробую пробивать и растягивать круглым напильником.
Работать я ушел в «машинное» — там было и свободнее, и ребятам не мешал спать. Время снова как бы остановилось. Иногда открывалась дверь и входил то Сырцов, то Ленька, то Сашка Головня, то Эрих.
— Может, помочь?
— Сам.
— Вроде получается.
— Вроде.
Я работал со страхом. Вторую такую болванку не найти. Какое там «семь раз отмерь». Я отмерял по двадцать раз и только тогда трогал напильником мягкий, податливый металл.
…Металлическая пыль росла горкой. Вот так, по пылинке, я снял с бронзовой болванки все лишнее — и получился держатель. Теперь-то я видел, что он получился. Он был теплый, блестящий; я подбрасывал его на ладони и сам удивлялся тому, как, в общем-то, все это очень просто.
Устанавливал держатель сам Сырцов.
— Ничего, — сказал он.
— Все-таки рабочий класс, — согласился я.
— Ленька предложил: если получится — еще одну благодарность тебе объявить.
— Валяй, — кивнул я. — Или нет, лучше не надо. Лучше в следующий раз ты мне наряд вне очереди не сунешь.
— Ну, давай так.
— Спасибо, отец.
— Что?
— Спасибо, говорю.
— Считай, что труд оплачен, — улыбнулся Сырцов, — и я отменяю один наряд вне очереди.
Он протянул мне руку и больно пожал мою — пальцы-то все-таки были в ссадинах.
Я снова ходил праздничный. К поездке в город, и телефонному разговору, и заметке в газете прибавилось что-то еще очень приятное.
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
Письма от Колянича
«Салют, сын!
После телефонного разговора сидели мы с мамой и сокрушались: столько надо было сказать, да оба растерялись и все забыли. Правда, мать открыла свой слезоточивый агрегат и мне пришлось закрывать его, на это ушло время. Ну а рассказать тебе хотелось вот о чем.
Ребята из твоей бригады первыми на заводе выполнили годовую норму. Это «подсчитали» только сейчас, и вся бригада в полном составе красуется на заводской Доске почета. Каждый раз спрашивают о тебе. Показал им вырезку из газеты, и, представь себе, никто не усомнился в том, что «т. Соколов» — это именно ты, хотя Соколовых на границе, наверное, несколько сот».
Второе.
«Очень симпатичная девушка по имени Зоя. Мы сидели и даже выпили немного сухого вина за твое здоровье. Разговор был очень интересный. Она спросила, по-прежнему ли ты «с фантазией». Мама сказала, что у тебя как раз очень мало фантазии. А я возразил: по-моему, ты набит ими до маковки! Зоя согласилась со мной. Потом она сказала, что ты очень бездумный. Мама начала с ней спорить. Я сказал, что это пройдет. Как, проходит? Ты уж меня не подводи, пожалуйста. А вообще нам понравилась девушка по имени Зоя.
Передай привет всем твоим товарищам. Готовим еще одну посылку, и я уже начинаю спорить с мамой — что присылать?»
От Зои (шестое)
«…Саша мне обо всем написал, даже с такими подробностями, что читаешь как повесть или рассказ.
И про тебя тоже, очень много и подробно. Напиши мне, пожалуйста, что он любит, и мы с девчонками соберем ему посылку ко Дню Советской Армии, а то обидно: все получат, а он — нет… Ладно?
У меня много работы. Сейчас ремонтируем всю улицу Воинова. Нагнали техники, остановили движение, а сроки очень короткие. Работаем весь световой день. Холодно, правда, но зато стараешься быстрей работать, и становится теплей.
Может, помнишь такую фамилию — Мшанский? Я звонила ему по твоему телефону, когда мы познакомились. Так вот этого Мшанского мы все-таки одолели. Я сама написала в райком партии, и к нам в Фасадремстрой пришел сам секретарь райкома. Было бурное собрание, и теперь Мшанского нет. Может, поэтому мы тоже так быстро и легко работаем. Приедешь — обязательно сходи на улицу Воинова. Она сейчас такая, как будто ее только что построили…»
Увезли Костьку…
Прошел февраль; в середине марта начались теплые дни, и снег осел. У подножий сосен образовались глубокие лунки. На скалах снег стаял, и камни стояли, поблескивая, как лакированные. Это была еще не весна, но уже и не зима. Впервые в жизни я с такой остротой чувствовал этот поворот в природе — просто потому, что в городе он почти неощутим и проходит незаметно.
Здесь я замечал все и радовался рдеющим ветвям краснотала, оживленным перестукиваниям дятлов на старых деревьях, а две синички, бог весть откуда взявшиеся здесь, вообще показались какой-то родней. Они все время вертелись возле дома, и Ленька вынес им кусочек сала.
Я видел: он тоже наслаждается и погодой, и поворотом на весну, и этими синичками. И Сашка, и Эрих, и сержант — тоже. В нас появилось что-то новое, чего я еще не мог определить словами. Мы раздевались до пояса и сидели в затишке, за баней, а солнце пекло — да-да, пекло по самому настоящему! — и на белых плечах Эриха сразу же выступили рыжие пятна веснушек. Мы словно бы купались в этом солнечном мире, впитывали его в себя; нам осточертели керосиновые лампы, февральские вьюги и темень; мы срывались как полоумные и устраивали бой в снежки, хохоча бог весть от чего. Один Костька не принимал участия в этой весенней вспышке радости.
Он ходил бледный, с ввалившимися глазами, и мы не сразу заметили это.
— По-моему, Костька болен, — сказал Ленька Сырцову.
— Он ничего не говорил?
— Надо спросить.
Он пошел к Костьке, я увязался за ним.
Тот лежал на своей койке, скрючившись, и поэтому казался совсем маленьким. Он и так-то невысокого роста.
— Ты заболел? — спросил Ленька.
— Нет.
— Два дня ничего не ешь.
— Ну и что? Я свое дело делаю, и оставьте меня в покое.
— Не рычи, — сказал я. — На кого сердишься-то? Если болен — сообщим на заставу. Чего у тебя болит?
— Ничего.
Костька тяжело поднялся и сел. У него даже лицо перекосилось — видимо, все-таки что-то болело. Я увидел под его глазами синие тени, как синяки после хорошей драки. А мы два дня ничего не замечали, да и он молчал.
— Ничего у меня не болит, и кончайте вашу заботливость. Не нуждаюсь.
Мы с Ленькой вышли и закрыли дверь в спальню. Пусть проспится. Бешеный какой-то. Пусть проспится, а ночью нам с ним в наряд, тогда и поговорю. Скорее всего захандрил парень, не выдержал, и теперь от него можно ждать всякого. Сырцов, когда мы рассказали ему о нашем разговоре, помрачнел.
— Я знаю, — сказал он. — Бывает такая хандра. Ничего, вылечим.
И сам пошел разговаривать с Костькой. Через несколько минут оба вышли из дома, и Костька взял лопату, которой мы расчищали снег. Такая широкая фанерная лопата с обитыми жестью краями.
— И мишени оборудуешь, — железным голосом сказал Сырцов. — Проверять буду сам.
Костька пошел, вскинув лопату на плечо, а нам все было ясно: схлопотал наряд вне очереди и отправился расчищать снег на стрельбище. С этой недели мы начинаем стрелять. Где-то в мае должна быть проверка.
Сырцов был не просто мрачен. Я-то уж точно знал, что с ним творится, если он так выдвигает свой «ковшик экскаватора» — подбородок. Очевидно, и ему тоже Костька сказал какие-то не очень вежливые слова. Иначе с чего бы нашему отцу так разозлиться и дать Костьке наряд вне очереди?
— А вы чего стоите? — накинулся он на нас. — У вас что по распорядку? Работа на козлодроме, что ли?
«Козлодром» — это стол, за которым в свободное время мы «забиваем козла». Но сейчас у меня по распорядку — кухня, а Ленька должен сменить часового. И мы разлетаемся в стороны от этой сержантской выволочки. Когда Сырцов злится, лучше быть от него подальше — эту истину мы усвоили уже давно.
Итак, сегодня и всю неделю обед готовлю я. Фантазии у меня хватает ненамного. Макароны с тушенкой. Каша с тушенкой. Щи с тушенкой. Суп картофельно-крупяной, тоже с тушенкой. Компот из сухофруктов. К свиной же туше, которую привез старшина, я просто боюсь подступиться. Черт его знает, что и откуда полагается резать, где там у нее сек, грудинка или кострец. Вот придет Ленькина очередь — пусть кормит нас по-человечески.
Сегодня тоже щи с тушенкой и «макаронные изделия», как написано на большой коробке. Наварю полную кастрюлю этих изделий. Просто мне не хочется чистить картошку. Терпеть не могу это занятие — чистить, выковыривать глазки, мыть… Ничего, схарчим и эти изделия за милую душу!
К обеду Костька не пришел. Объявил голодовку, что ли? Или скорее всего заработался. Снежку там, на стрельбище, — будь здоров; пока освободишь пятидесятиметровую полосу — намашешься лопатой, а снег мокрый, тяжелый, и Костьке, конечно, сейчас муторно. Что-то, правда, беспокоило меня. Эти синяки под его глазами и то, что он пошатывался, было не очень-то хорошим признаком. Но я подумал: надо знать Костьку. Конечно, если б он заболел, сказал бы сразу. Еще бы! Попадет в город, в госпиталь. Я помню наш разговор на прожекторной. Ради этого Костька мог и симульнуть. А если молчит — стало быть, просто плохое настроение, вот и все. Грызет сам себя и курит много. Ведь и накуриться тоже можно до одури, до синяков под глазами и дрожи в коленках.
Уже темнело, надвигались сизые мартовские сумерки, а Костьки все не было. Через полчаса мы должны идти на прожектор. Я представил себе, что будет с Сырцовым, если Костька опоздает. Сержант спал, и я не стал будить его. До стрельбища недалеко, минут десять ходу, успею. Если бегом — и того быстрее. Я побежал. Видимо, от злости на сержанта Костька забыл о времени и вкалывает вовсю, чтобы успокоить расходившиеся нервы.
— Костька!
Было тихо, никто не отозвался. Я сбежал вниз, в распадок, где было наше стрельбище, и сразу увидел Костьку. Он лежал на боку, нелепо подвернув руку; лопата валялась рядом. Расчищено было совсем немного — метров десять на огневом рубеже.
— Костька!
Глаза у него были закрыты, и когда я начал расталкивать его, Костька застонал, но глаз не открыл. Стон у него был тяжелый, глухой — очевидно, ему стало больно. У меня тряслись руки, когда я поднимал его и взваливал на себя. Небольшой ростом, он оказался неожиданно тяжелым, и я с трудом понес Костьку, увязая в снегу. Надо было подняться из распадка, и я боялся поскользнуться и упасть. Костька давил на меня, как свинцовый, и, когда я поднялся наверх, по телу начали бежать струйки пота.
Ничего, здесь недалеко, дотащу. На ровном месте, конечно, тащить его было куда легче. Что с ним случилось? Не теряют же люди сознание просто так? Сколько он провалялся? Хорошо, нет мороза, температура плюсовая, а то вполне мог замерзнуть. Да и неизвестно еще, чем кончится это его лежание в снегу…
Я внес Костьку в дом, пинком отворил дверь, и она загрохотала. Сырцов выскочил из спальни, уставился на меня непонимающими глазами, и я прохрипел:
— Помоги же.
Мы опустили Костьку на его постель, не раздевая.
— Что с ним?
— Я не доктор. Валялся без сознания. Надо сообщить на заставу.
Сырцов начал одеваться, но я не стал ждать его. Сашка, наверно, в «машинном», у Эриха, больше ему быть негде. Эрих учит его, как обращаться с дизелем.
Бегом, бегом! Мне казалось, что без тяжелого Костьки на спине я смогу бежать. Но бежал я еле-еле и мешком ввалился в «машинное».
— Скорее, — выдавил я из себя. — Костьке плохо. Мне надо было посидеть, отдышаться. Головня и Эрих убежали, бросив все. Я отдышусь и пойду. Что же все-таки с Костькой? Если ему было действительно так худо, почему молчал, да еще кидался на нас? А ему, значит, было действительно худо.
Но сейчас Головня выйдет на связь с заставой, и придут аэросани. Я отдышался и встал. Все-таки дурак он, Костька. Почему не хотел сказать, что ему худо?
Когда я снова вошел в спальню, ребята стояли возле него, и у меня все похолодело внутри. Вот так же мы стояли однажды в цехе, когда прямо у кузнечной плиты, не докончив работу, умер старый кузнец, дядя Федя. Но Костька не мог, не имел права умереть. Он был еще слишком молод для этого.
— Как он?
— Горит весь, — тихо сказал Сырцов.
— Сани вызвали? — Я мог бы не спрашивать об этом. В первой комнате на столе стояла раскрытая рация. Сырцов не ответил. Он стоял, морщась, как будто к нему тоже пришла боль, и вдруг сказал, не обращаясь ни к кому:
— Моя вина. Судить мало.
Надо было собрать Костькины вещи. Я принес пустую коробку из-под макаронных изделий. Вещей у Костьки было немного, и Эрих быстро сложил их в коробку.
— Головня, сменить Басова на вышке, — снова очень тихо сказал Сырцов. — Соколов с Басовым — на прожекторную, Кыргемаа — на дизель. Выполняйте.
Я еще раз поглядел на Костьку, и мне показалось, что веки у него дрогнули, но ждать, пока он откроет глаза, мы уже не могли.
Потом пришли аэросани, и я видел, как Сырцов несет Костьку, несет на руках, будто маленького ребенка. Издали трудно было определить, кто спрыгнул с саней и пошел навстречу Сырцову. Может быть, старший лейтенант. Во всяком случае, мне так показалось.
Сани ушли, а Сырцов все стоял и стоял там, за камнями. Я несколько раз врубал ток и освещал его маленькую на расстоянии фигурку. Наконец он пошел к берегу, и я знал, что он появится здесь, на прожекторной, и что на душе у него сейчас тяжелее, чем у всех нас.
Вот похрустывает мокрый снег под его ногами. Вот он вошел в гараж.
— Почему ведете поиск не по инструкции?
— Брось, — сказал я. — Чего сейчас инструкцию-то вспоминать?
— Отставить разговоры! — рявкнул он на меня. Мне стало обидно — зачем срывать злость на других?
Я работал молча. Хорошо, что у меня есть дело и не надо разговаривать. Открыл люк, застопорил противовес держателя третьего электрода (моего держателя!), начал вынимать остатки сгоревших углей.
— Плохо, — сказал Сырцов. — Медленно! — он все еще кипел. Но я снова промолчал. Не буду с тобой спорить. Знаю я тебя, отец, как облупленного. Плохо так плохо, медленно так медленно. — С завтрашнего дня начнем индивидуальную тренировку. Менять электроды надо за двадцать пять секунд.
— Это если на «отлично», — все-таки сказал я.
— Вот и будете так, — сказал Сырцов. Ну, если он обращается на «вы», дело совсем дрянь. Молчал я, молчал Ленька и вдруг после томительно-долгого молчания Сырцов сказал с такой тоской, что я невольно вздрогнул:
— Я, наверное, тоже скоро уеду.
— Куда?
— На парткомиссию должны вызвать, начальник заставы сказал. Переживу. Лишь бы с ним все было в порядке.
«С ним» — значило с Костькой.
«Салют, сын!
После телефонного разговора сидели мы с мамой и сокрушались: столько надо было сказать, да оба растерялись и все забыли. Правда, мать открыла свой слезоточивый агрегат и мне пришлось закрывать его, на это ушло время. Ну а рассказать тебе хотелось вот о чем.
Ребята из твоей бригады первыми на заводе выполнили годовую норму. Это «подсчитали» только сейчас, и вся бригада в полном составе красуется на заводской Доске почета. Каждый раз спрашивают о тебе. Показал им вырезку из газеты, и, представь себе, никто не усомнился в том, что «т. Соколов» — это именно ты, хотя Соколовых на границе, наверное, несколько сот».
Второе.
«Очень симпатичная девушка по имени Зоя. Мы сидели и даже выпили немного сухого вина за твое здоровье. Разговор был очень интересный. Она спросила, по-прежнему ли ты «с фантазией». Мама сказала, что у тебя как раз очень мало фантазии. А я возразил: по-моему, ты набит ими до маковки! Зоя согласилась со мной. Потом она сказала, что ты очень бездумный. Мама начала с ней спорить. Я сказал, что это пройдет. Как, проходит? Ты уж меня не подводи, пожалуйста. А вообще нам понравилась девушка по имени Зоя.
Передай привет всем твоим товарищам. Готовим еще одну посылку, и я уже начинаю спорить с мамой — что присылать?»
От Зои (шестое)
«…Саша мне обо всем написал, даже с такими подробностями, что читаешь как повесть или рассказ.
И про тебя тоже, очень много и подробно. Напиши мне, пожалуйста, что он любит, и мы с девчонками соберем ему посылку ко Дню Советской Армии, а то обидно: все получат, а он — нет… Ладно?
У меня много работы. Сейчас ремонтируем всю улицу Воинова. Нагнали техники, остановили движение, а сроки очень короткие. Работаем весь световой день. Холодно, правда, но зато стараешься быстрей работать, и становится теплей.
Может, помнишь такую фамилию — Мшанский? Я звонила ему по твоему телефону, когда мы познакомились. Так вот этого Мшанского мы все-таки одолели. Я сама написала в райком партии, и к нам в Фасадремстрой пришел сам секретарь райкома. Было бурное собрание, и теперь Мшанского нет. Может, поэтому мы тоже так быстро и легко работаем. Приедешь — обязательно сходи на улицу Воинова. Она сейчас такая, как будто ее только что построили…»
Увезли Костьку…
Прошел февраль; в середине марта начались теплые дни, и снег осел. У подножий сосен образовались глубокие лунки. На скалах снег стаял, и камни стояли, поблескивая, как лакированные. Это была еще не весна, но уже и не зима. Впервые в жизни я с такой остротой чувствовал этот поворот в природе — просто потому, что в городе он почти неощутим и проходит незаметно.
Здесь я замечал все и радовался рдеющим ветвям краснотала, оживленным перестукиваниям дятлов на старых деревьях, а две синички, бог весть откуда взявшиеся здесь, вообще показались какой-то родней. Они все время вертелись возле дома, и Ленька вынес им кусочек сала.
Я видел: он тоже наслаждается и погодой, и поворотом на весну, и этими синичками. И Сашка, и Эрих, и сержант — тоже. В нас появилось что-то новое, чего я еще не мог определить словами. Мы раздевались до пояса и сидели в затишке, за баней, а солнце пекло — да-да, пекло по самому настоящему! — и на белых плечах Эриха сразу же выступили рыжие пятна веснушек. Мы словно бы купались в этом солнечном мире, впитывали его в себя; нам осточертели керосиновые лампы, февральские вьюги и темень; мы срывались как полоумные и устраивали бой в снежки, хохоча бог весть от чего. Один Костька не принимал участия в этой весенней вспышке радости.
Он ходил бледный, с ввалившимися глазами, и мы не сразу заметили это.
— По-моему, Костька болен, — сказал Ленька Сырцову.
— Он ничего не говорил?
— Надо спросить.
Он пошел к Костьке, я увязался за ним.
Тот лежал на своей койке, скрючившись, и поэтому казался совсем маленьким. Он и так-то невысокого роста.
— Ты заболел? — спросил Ленька.
— Нет.
— Два дня ничего не ешь.
— Ну и что? Я свое дело делаю, и оставьте меня в покое.
— Не рычи, — сказал я. — На кого сердишься-то? Если болен — сообщим на заставу. Чего у тебя болит?
— Ничего.
Костька тяжело поднялся и сел. У него даже лицо перекосилось — видимо, все-таки что-то болело. Я увидел под его глазами синие тени, как синяки после хорошей драки. А мы два дня ничего не замечали, да и он молчал.
— Ничего у меня не болит, и кончайте вашу заботливость. Не нуждаюсь.
Мы с Ленькой вышли и закрыли дверь в спальню. Пусть проспится. Бешеный какой-то. Пусть проспится, а ночью нам с ним в наряд, тогда и поговорю. Скорее всего захандрил парень, не выдержал, и теперь от него можно ждать всякого. Сырцов, когда мы рассказали ему о нашем разговоре, помрачнел.
— Я знаю, — сказал он. — Бывает такая хандра. Ничего, вылечим.
И сам пошел разговаривать с Костькой. Через несколько минут оба вышли из дома, и Костька взял лопату, которой мы расчищали снег. Такая широкая фанерная лопата с обитыми жестью краями.
— И мишени оборудуешь, — железным голосом сказал Сырцов. — Проверять буду сам.
Костька пошел, вскинув лопату на плечо, а нам все было ясно: схлопотал наряд вне очереди и отправился расчищать снег на стрельбище. С этой недели мы начинаем стрелять. Где-то в мае должна быть проверка.
Сырцов был не просто мрачен. Я-то уж точно знал, что с ним творится, если он так выдвигает свой «ковшик экскаватора» — подбородок. Очевидно, и ему тоже Костька сказал какие-то не очень вежливые слова. Иначе с чего бы нашему отцу так разозлиться и дать Костьке наряд вне очереди?
— А вы чего стоите? — накинулся он на нас. — У вас что по распорядку? Работа на козлодроме, что ли?
«Козлодром» — это стол, за которым в свободное время мы «забиваем козла». Но сейчас у меня по распорядку — кухня, а Ленька должен сменить часового. И мы разлетаемся в стороны от этой сержантской выволочки. Когда Сырцов злится, лучше быть от него подальше — эту истину мы усвоили уже давно.
Итак, сегодня и всю неделю обед готовлю я. Фантазии у меня хватает ненамного. Макароны с тушенкой. Каша с тушенкой. Щи с тушенкой. Суп картофельно-крупяной, тоже с тушенкой. Компот из сухофруктов. К свиной же туше, которую привез старшина, я просто боюсь подступиться. Черт его знает, что и откуда полагается резать, где там у нее сек, грудинка или кострец. Вот придет Ленькина очередь — пусть кормит нас по-человечески.
Сегодня тоже щи с тушенкой и «макаронные изделия», как написано на большой коробке. Наварю полную кастрюлю этих изделий. Просто мне не хочется чистить картошку. Терпеть не могу это занятие — чистить, выковыривать глазки, мыть… Ничего, схарчим и эти изделия за милую душу!
К обеду Костька не пришел. Объявил голодовку, что ли? Или скорее всего заработался. Снежку там, на стрельбище, — будь здоров; пока освободишь пятидесятиметровую полосу — намашешься лопатой, а снег мокрый, тяжелый, и Костьке, конечно, сейчас муторно. Что-то, правда, беспокоило меня. Эти синяки под его глазами и то, что он пошатывался, было не очень-то хорошим признаком. Но я подумал: надо знать Костьку. Конечно, если б он заболел, сказал бы сразу. Еще бы! Попадет в город, в госпиталь. Я помню наш разговор на прожекторной. Ради этого Костька мог и симульнуть. А если молчит — стало быть, просто плохое настроение, вот и все. Грызет сам себя и курит много. Ведь и накуриться тоже можно до одури, до синяков под глазами и дрожи в коленках.
Уже темнело, надвигались сизые мартовские сумерки, а Костьки все не было. Через полчаса мы должны идти на прожектор. Я представил себе, что будет с Сырцовым, если Костька опоздает. Сержант спал, и я не стал будить его. До стрельбища недалеко, минут десять ходу, успею. Если бегом — и того быстрее. Я побежал. Видимо, от злости на сержанта Костька забыл о времени и вкалывает вовсю, чтобы успокоить расходившиеся нервы.
— Костька!
Было тихо, никто не отозвался. Я сбежал вниз, в распадок, где было наше стрельбище, и сразу увидел Костьку. Он лежал на боку, нелепо подвернув руку; лопата валялась рядом. Расчищено было совсем немного — метров десять на огневом рубеже.
— Костька!
Глаза у него были закрыты, и когда я начал расталкивать его, Костька застонал, но глаз не открыл. Стон у него был тяжелый, глухой — очевидно, ему стало больно. У меня тряслись руки, когда я поднимал его и взваливал на себя. Небольшой ростом, он оказался неожиданно тяжелым, и я с трудом понес Костьку, увязая в снегу. Надо было подняться из распадка, и я боялся поскользнуться и упасть. Костька давил на меня, как свинцовый, и, когда я поднялся наверх, по телу начали бежать струйки пота.
Ничего, здесь недалеко, дотащу. На ровном месте, конечно, тащить его было куда легче. Что с ним случилось? Не теряют же люди сознание просто так? Сколько он провалялся? Хорошо, нет мороза, температура плюсовая, а то вполне мог замерзнуть. Да и неизвестно еще, чем кончится это его лежание в снегу…
Я внес Костьку в дом, пинком отворил дверь, и она загрохотала. Сырцов выскочил из спальни, уставился на меня непонимающими глазами, и я прохрипел:
— Помоги же.
Мы опустили Костьку на его постель, не раздевая.
— Что с ним?
— Я не доктор. Валялся без сознания. Надо сообщить на заставу.
Сырцов начал одеваться, но я не стал ждать его. Сашка, наверно, в «машинном», у Эриха, больше ему быть негде. Эрих учит его, как обращаться с дизелем.
Бегом, бегом! Мне казалось, что без тяжелого Костьки на спине я смогу бежать. Но бежал я еле-еле и мешком ввалился в «машинное».
— Скорее, — выдавил я из себя. — Костьке плохо. Мне надо было посидеть, отдышаться. Головня и Эрих убежали, бросив все. Я отдышусь и пойду. Что же все-таки с Костькой? Если ему было действительно так худо, почему молчал, да еще кидался на нас? А ему, значит, было действительно худо.
Но сейчас Головня выйдет на связь с заставой, и придут аэросани. Я отдышался и встал. Все-таки дурак он, Костька. Почему не хотел сказать, что ему худо?
Когда я снова вошел в спальню, ребята стояли возле него, и у меня все похолодело внутри. Вот так же мы стояли однажды в цехе, когда прямо у кузнечной плиты, не докончив работу, умер старый кузнец, дядя Федя. Но Костька не мог, не имел права умереть. Он был еще слишком молод для этого.
— Как он?
— Горит весь, — тихо сказал Сырцов.
— Сани вызвали? — Я мог бы не спрашивать об этом. В первой комнате на столе стояла раскрытая рация. Сырцов не ответил. Он стоял, морщась, как будто к нему тоже пришла боль, и вдруг сказал, не обращаясь ни к кому:
— Моя вина. Судить мало.
Надо было собрать Костькины вещи. Я принес пустую коробку из-под макаронных изделий. Вещей у Костьки было немного, и Эрих быстро сложил их в коробку.
— Головня, сменить Басова на вышке, — снова очень тихо сказал Сырцов. — Соколов с Басовым — на прожекторную, Кыргемаа — на дизель. Выполняйте.
Я еще раз поглядел на Костьку, и мне показалось, что веки у него дрогнули, но ждать, пока он откроет глаза, мы уже не могли.
Потом пришли аэросани, и я видел, как Сырцов несет Костьку, несет на руках, будто маленького ребенка. Издали трудно было определить, кто спрыгнул с саней и пошел навстречу Сырцову. Может быть, старший лейтенант. Во всяком случае, мне так показалось.
Сани ушли, а Сырцов все стоял и стоял там, за камнями. Я несколько раз врубал ток и освещал его маленькую на расстоянии фигурку. Наконец он пошел к берегу, и я знал, что он появится здесь, на прожекторной, и что на душе у него сейчас тяжелее, чем у всех нас.
Вот похрустывает мокрый снег под его ногами. Вот он вошел в гараж.
— Почему ведете поиск не по инструкции?
— Брось, — сказал я. — Чего сейчас инструкцию-то вспоминать?
— Отставить разговоры! — рявкнул он на меня. Мне стало обидно — зачем срывать злость на других?
Я работал молча. Хорошо, что у меня есть дело и не надо разговаривать. Открыл люк, застопорил противовес держателя третьего электрода (моего держателя!), начал вынимать остатки сгоревших углей.
— Плохо, — сказал Сырцов. — Медленно! — он все еще кипел. Но я снова промолчал. Не буду с тобой спорить. Знаю я тебя, отец, как облупленного. Плохо так плохо, медленно так медленно. — С завтрашнего дня начнем индивидуальную тренировку. Менять электроды надо за двадцать пять секунд.
— Это если на «отлично», — все-таки сказал я.
— Вот и будете так, — сказал Сырцов. Ну, если он обращается на «вы», дело совсем дрянь. Молчал я, молчал Ленька и вдруг после томительно-долгого молчания Сырцов сказал с такой тоской, что я невольно вздрогнул:
— Я, наверное, тоже скоро уеду.
— Куда?
— На парткомиссию должны вызвать, начальник заставы сказал. Переживу. Лишь бы с ним все было в порядке.
«С ним» — значило с Костькой.
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
Весна кончилась
Вернее, не весна, а наше ощущение весны — солнца, праздника, вертких синичек, проталин возле сосен, сосулек с крыши нашего дома. День стоял на редкость яркий, теплый; весна обрушивалась на нас, а мы не замечали ее и не радовались ей, как было еще вчера. Каждый из нас был в чем-то виноват перед Костькой, и мы плохо спали, совсем не могли есть, а Сырцов — тот вовсе не находил себе места. Он ушел утром. Сказал — расчищать снег на стрельбище. Он мог бы приказать это любому из нас, пошел сам. А мы искали работу для себя, потому что это было немыслимо: сидеть просто так. Я решил протереть отражатели, хотя три дня назад это делал Костька. Мне надо было побыть одному. Потом я пойду на вышку, сменю Эриха и снова буду один. Наверное, этого хотел не только я, иначе зачем бы Сырцову было идти расчищать снег на стрельбище, Леньке — снова колоть и складывать дрова, а Головне — мыть полы?
«Может ли с Костькой случиться самое плохое? — подумал я. — Нет, должны вытащить, вылечить, медицина все-таки сильная наука. А если не вытащат?» Не мог даже представить себе этого и гнал от себя эту мысль, а она возвращалась снова.
Ну и что из того, что все мы когда-то умрем? Когда это еще будет! Но умирать сейчас, когда ничего, собственно говоря, не сделал, не узнал, — бред, нелепость, глупость, бессмыслица, и такого не может быть. Обидно, когда умирают люди. Зачем? Дурацкий закон природы, которая чего-то не додумала, не доделала. Но если уж так положено — надо прожить здорово: вот почему Костька должен выжить.
Из глубины гаража вышел Ленька. Очевидно, он уже кончил возню с дровами, и больше ему нечего было делать.
— Тебе помочь?
Мне не надо было помогать. Я тоже кончил свою работу. Можно было посидеть просто так. Я вытащил сигареты и спички.
— Дай закурить, — попросил Ленька.
Он был некурящий. Я смотрел, как он неловко держит сигарету, прикуривает, кашляет, отводя от дыма лицо.
— Зачем тебе это нужно? — спросил я. — Для солидности что ли?
— Помнишь, он меня телком называл? — не отвечая на мой вопрос, спросил Ленька, отворачиваясь. Но я видел, что он отворачивается уже не от дыма.
— Заткнись! — крикнул я. — Что вы все, с ума посходили?!
* * *
Если мы можем выходить на связь с заставой в любое время, застава вызывает нас в определенные часы. Ждем каждого разговора Головни с заставой. Три раза в сутки обступаем стол, на котором стоит «Сокол», и смотрим на Сашку, пытаясь по его лицу угадать — как там. Костьки на заставе уже нет. Его сразу же вывезли в город на вертолете. В сознание он так и не приходил. И по тому, как мрачен Сашка, мы уже знаем: ничего нового, ничего хорошего, а восемь часов спустя снова смотрим в его лицо.
У Костьки перитонит. Никто из нас толком не знает, что это такое, а началось все, оказывается, с простого аппендицита. Сырцов долго молчит, когда Сашка передает нам это и сворачивает рацию.
— Как же он терпел? — спрашивает Сырцов. — У меня тоже был аппендицит, так я на стенку лез.
— Зачем терпел? — спрашивает Ленька.
— А может, боялся, что мы не поверим? — спрашиваю я.
Само слово «перитонит» какое-то слишком страшное. Мы ругаем Сашку за то, что он не разузнал точно, что же это значит — перитонит. Но, наверно, очень паршивая штука, если парень теряет сознание, а на заставу срочно посылают вертолет. Не зуб вырвать.
Теперь наши сутки как бы поделены на три части по восемь часов каждая. Проходит день, второй. Мы уже знаем, что перитонит — это прободение кишечника и гнойное воспаление брюшины, и что операцию Костьке делали четыре с лишним часа, и что в общем-то пока все очень плохо. Но, во-первых, там не какие-нибудь фельдшеры, а настоящие врачи. Во-вторых, если понадобится, и профессора привезут на том же вертолете из Ленинграда. В-третьих, операция уже сделана, а раз сделана, значит, всякую дрянь из Костькиного живота вытащили и где было прободение — заштопали. Просто нам надо успокаивать себя и друг друга; эти доводы кажутся нам железными, и мы понемногу успокаиваемся.
И хорошо, что Сырцов гоняет нас в эти дни так, что время проносится совершенно незаметно. Стрельбы — раз; опять строевая — два; работа с техникой — три, и я просто не верю, когда он показывает мне, как надо менять электроды. Он делает это за двадцать секунд. Потом он гоняет нас на турнике, и хуже всех приходится Леньке. Он подтягивается только три раза, и на проверке как пить дать по физподготовке схлопочет столько же — тройку. Это не Эрих. Тот выдает восемнадцать и после этого еще улыбается, чуть бледнея от усталости.
Я подтягиваюсь девять, а все эти «солнышки», двойной переворот, «завис» и у меня тоже идут туговато.
«И все равно, — думаю я, — Костька с удовольствием бы поменялся. Пусть лучше Сырцов вынимает всю душу, чем валяться на больничной койке, да еще с такой подлой болезнью».
Сырцов безжалостен. Теперь для меня самое желанное — дежурить на вышке. Это днем.
Однажды на перила вышки уселась какая-то странная птица — яркая, с забавным хохолком. Я замер, боясь вспугнуть ее. Птица сидела и глядела на меня круглым черным немигающим глазом.
— Эй, — сказал я. — Чего расселась? Отдыхаешь, что ли?
Птица повернулась на мой голос и уставилась в два глаза.
— Ты что — издалека? — Мне забавно было разговаривать с ней. Собственно, говорил-то один я, а она только крутила хохолком, прислушиваясь. — Как тебя звать?
Она стремительно сорвалась с перил и улетела, петляя между ветвями берез. Наверно, издалека, решил я. Зимой я не видел таких хохластых. Значит, весна.
Весна
В первых числах апреля начальник заставы привел к нам Ложкова. Они снова пришли на лыжах, и на Ложкове, что говорится, лица не было. Тепло, мокрый снег липнет к лыжам, и Ложков, конечно, проклинал про себя старшего лейтенанта за эту двенадцатикилометровую прогулку. Старший лейтенант провел с нами занятие — прочитал лекцию о международном положении, потом о чем-то долго толковал с Сырцовым и ушел обратно, на заставу. Ложков остался у нас. Я не понимал: какой нам от него прок? Ни с дизелем, ни с прожектором он не знаком, учить его — дело хлопотное, да и какие мы преподаватели. А сам Ложков, отдохнув малость и придя в себя, так и цветет:
— Ну, братва, заживем!
— Это почему же? — спросил я. — Может, у тебя скатерка-самобранка имеется, а? Давай не жмись, показывай.
Он захохотал и хлопнул меня по плечу.
— Остряк ты, как я погляжу!
Я не люблю, когда меня хлопают, и в свой черед хлопнул его — Ложков пошатнулся.
— Я реалист-материалист. Ясно?
Он снова захохотал. Ему было очень весело почему-то. Но больше он меня уже не хлопал. Он сел на Костькину койку и попрыгал на ней.
— Значит, этот припадочный здесь лежал? Ничего, мягко.
— Это вы о ком? — спросил Сырцов, заглядывая в спальню. Ложков потыкал большим пальцем за окно:
— Ну, о том, которого на вертолете уволокли. Я слышал — чуть не загнулся было.
Сырцов вошел в спальню, а я сел — нога на ногу, будто в первом ряду партера, потому что вот сейчас начнется действие, и я с удовольствием, с наслаждением посмотрю его от начала и до конца. Но действие начиналось очень медленно, очень медленно начала выдвигаться челюсть Сырцова, и сказал он тихо, так, что во втором ряду партера, наверно, уже не расслышали бы.
— Встать!
Ах, Ложков, до чего же мне жалко тебя! Сейчас ты получишь такую выволочку, какая, наверно, не снилась тебе в самых плохих снах. Ты-то подумал, поди, что наш Сырцов — просто вежливый человек, ежели обращается к тебе на «вы». Ах, Ложков, корешок, братишечка, зачем же ты улыбаешься и не встаешь, когда была команда «встать»? Зря ты так — или не расслышал?
— Встать!
Расслышал. Понял. Встал. Только зачем же улыбаться сейчас: или не чувствуешь, что сержант не сержант вовсе, а раскаленная железяка?
— Ты что, шумнуть на меня решил? Не надо, сержант. Я шума не люблю.
— Вот что, — сказал Сырцов. — Это койка нашего товарища рядового Короткевича. Поняли? Повторите.
— Ну брось ты, сержант! — хмыкнул Ложков. — Давай так: по службе — одно, по дружбе — другое. И не будем ссориться для знакомства.
— Повторите, — приказал Сырцов. — Чья эта койка?
— Эй, — повернулся ко мне Ложков, — подскажи, а?
— Рядового Короткевича Константина Сергеевича. Имя-отчество запомнить легко. Как у Станиславского.
— Отставить, — рявкнул на меня Сырцов. — Ну?
— Койка рядового Короткевича.
— Гак вот, Ложков, — еле сдерживая себя, сказал сержант. — Это наш товарищ. Усвоили? А не какой-то припадочный, как вы сказали. Он выздоровеет и вернется сюда, но вы — вы лично! — заменить его не можете. Вас прислали для того, чтобы не заменить Короткевича, а помочь всему личному составу расчета. Здесь народ дружный и вашей расхлябанности не потерпит.
Ложков сделал удивленное лицо и прижал руки к груди. Это он-то расхлябанный? Да кто мог возвести на него такой поклеп? Сырцов перебил его:
— Сколько у вас взысканий?
— Точно не помню.
— А по-моему, ими уже комнату можно оклеить, — сказал Сырцов.
И мне стало грустно. Значит, этого Ложкова к нам прислали на перевоспитание? И будем мы с ним мучиться, будем ругаться, вытряхивать дурь, тратить на него свои нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются. Конечно, у старшего лейтенанта свои соображения.
Когда Сырцов вышел, он спросил:
— Сердитый мужик, да?
— А ты его не серди. Помнишь, ты мне сказал: «Солдат спит — служба идет». Этого у нас не любят.
Он покосился на меня и хмыкнул:
— Ну да, не любят! Рассказывай бабушке! Где это видано, чтоб солдат не сачканул при первой возможности? И этот ваш Станиславский, наверно, тоже больше придуривался, чем на самом деле болел.
— Слушай, Ложков, тебя отец часто драл?
— Не очень.
— Жаль, — сказал я. — Это заметно. Очень жаль!
Больше мне не хотелось с ним разговаривать. Поймет что к чему — хорошо; не поймет — ему же будет плохо. А я здесь ни при чем, и говорить нам больше не о чем.
Письма
От Зои (девятое)
«Здравствуй, Володя! Вот и весна пришла. В Ленинграде уже совсем нет снега, а вчера прошел дождь. Но это к слову, потому что я не люблю говорить о погоде. О ней говорят, когда больше не о чем.
Я пишу тебе посоветоваться: как мне быть дальше? Конечно, Ленинград — это здорово, и работа у меня хорошая, но все время живу с ощущением, будто мимо меня проходит что-то очень важное, а может быть, даже главное. Как будто я стою в стороне, хотя понимаю, что это не так и что моя работа тоже нужна в Ленинграде. Но…
Сейчас всюду говорят и пишут про КамАЗ. Читал? И вот я задумалась: может, именно там мое Самое главное? Некоторые ребята — строители, которые покрепче и которые не считают, что жить надо «обязательно в Ленинграде», уже поехали туда, на КамАЗ. Я получила от них письмо — зовут. Строительство там огромное, и отделочники очень нужны.
Конечно, не так просто сорваться с места, оставить бригаду и уехать. Тут надо все решить для себя по совести, а друзья могут помочь в таком решении. Что скажешь ты?
Спасибо за подробное письмо, в котором ты рассказал о жизни Саши. Я понимаю, почему он не хочет после службы возвращаться домой, и написала ему, что место для него найдется всюду, на том же КамАЗе. Вообще, конечно, парня здорово жалко, что у него такая неудачная судьба, но он теперь сам ее полный хозяин. Может быть, напишете мне вместе?..»
Мое — маме и Коляничу
«Салют, родители!
Что-то не радуете вы меня своими письмами. Понимаю, что Колянич замотан, а у мамы привычка сваливать обязанность писать мне на него. Очевидно, после этого письма будет большой перерыв, пока не сойдет лед и не начнет ходить катер. Так что не волнуйтесь, если долго не будет писем.
У меня все в порядке. Жив и вполне здоров. В Ленинграде в такую погоду обязательно бы подхватил насморк, а здесь сидим голые до пояса на солнце, обтираемся последним снегом — и ничего.
Есть у меня к вам дело, очень важное.
Вчера вечером нам передали, что у нашего сержанта Сырцова родилась сестренка. Сам он старший, есть четверо братьев, и все они думали, что будет шестой брат, а родилась девчонка, и мы скинулись, кто сколько мог, на подарок. Так что вместе с письмом получите перевод на 47 рублей, и я прошу маму купить для сестренки, что положено. Мама, наверно, знает. Отослать нужно по адресу: Коми АССР, Березовский леспромхоз, Сырцовым. И положить красивую открытку с надписью: «От солдат-пограничников расчета сержанта Сырцова. Расти, сестренка, большая, здоровая и хорошая».
* * *
Правильно поют: «Мне сверху видно все…» Сверху, с вышки, весна была заметнее. Синие тени лежали в лесу; снег сползал с нашего острова, и на склонах уже виднелась земля со смятой прошлогодней травой. Ночью мы слышали какие-то гулкие удары — сейчас, на вышке, я понял, в чем дело: ветром разломало лед, и это гремели, сталкиваясь, тяжелые льдины. Сырцов предупредил, что должны начаться штормы и чтобы мы были готовы. В прошлом году, оказывается, с нашего дома сорвало крышу. Будто шапку скинуло. Хорошенькое дело! Особенно весело в такую погоду будет здесь, на вышке.
Я видел, как медленно ползут разломанные льдины. Это было похоже на какой-то прощальный танец. Только у берега лед еще лежал прочно, но и эта прочность была кажущейся: он был в трещинах и цеплялся за прибрежные камни.
Перед домом на чистой от снега поляне Сырцов проводил строевую. Я не слышал команд, слова относило ветром. Но видел, как терзает сержант ребят. Отрабатывает шаг, повороты, перестроение. Эта весенняя проверка будет для него последней. Он — «дед»; в мае придет приказ министра обороны, и Сырцов начнет собираться в свой Березовский леспромхоз. Кого-то пришлют вместо него?
А пока он особенно терзает Ложкова, и это понятно. Точно так же поначалу он вел себя со мной. Не могу сказать, чтобы тогда мне это очень нравилось. Ложкову тоже не нравится. Вчера он при всех грохнул сержанту: «Чего ты из себя начальство корчишь? Такой же, как и мы, а корчишь на рупь двадцать». Сырцов медленно обвел нас глазами. Это было за обедом. Мы одновременно отложили ложки. Я подумал, что на второе у нас будет отбивная из Ложкова. Эх, нельзя пошутить вслух, не та обстановка!
— Вот что, Ложков, — сказал, краснея, Ленька. — Раз уж ты к нам попал, живи, как мы. Ведь иначе-то худо будет только тебе одному.
— Темную сделаете? — поинтересовался Ложков.
— Разговаривать с тобой не будем, — сказал Сашка.
— Усек? — спросил я.
Странный он человек, Ложков. Любит хлопать по плечу и обращаться не иначе, как «эй, друг». Сунулся было к Эриху, а тот спокойно ответил: «Подождать надо». Ложков улыбался, не понимая — чего подождать? «Дружбы», — коротко отрезал Эрих и пошел прочь, а Ложков по инерции продолжал улыбаться ему вслед.
Да, Эрка прав. Мы еще не называем Ложкова по имени, а только вот так — Ложков. И когда мы скидывались на подарок сестренке, он не дал ни копейки. «Откуда у меня деньги? Солдату они ни к чему». Ну, на нет и суда нет. Хотя, наверно, какие-то рубли у него все-таки водятся. Пожадничал или не захотел давать именно для Сырцова?
…Там, внизу, на поляне, Сырцов гоняет Ложкова, и вовсе не потому, что он зол на него, а потому, что у Ложкова все получается хуже, чем у других. Он весь какой-то тюфякообразный. Идешь рядом с ним в строю, а он заваливается на сторону, толкается, сбивает шаг. Из-за него приходится повторять снова и снова. Как будто бы его ничему не учили ни на учебном пункте, ни на заставе. Или он здорово сачковал? У нас это не пройдет, каждый на виду, и здесь быстро выскакивает наружу все, что в ком есть.
Мне нельзя долго глядеть вниз: не дай бог, Сырцов заметит, что я любуюсь на строевую. Я берусь за ручки бинокулярной трубы, и в оптике — совсем близко, так близко, что, кажется, можно дотронуться рукой, — льды, льды и льды. Разорванные, торчком стоящие, наваливающиеся одна на другую льдины и ничего больше. По ним не пройти, их не объехать. Кто рискнет сунуться через эти смертельные льды?
Я написал Зое отчаянное письмо. Просил ее не уезжать. Но, наверно, она все-таки уедет. Сашка сник, когда я сказал ему, что Зоя собирается на КамАЗ. Ему-то чего сникать? Он ведь ее даже в глаза не видел. Ну, будет получать письма из Набережных Челнов, а не из Ленинграда — какая ему разница? Я же чувствовал, что Зоя уезжает от меня, вот в чем штука. На КамАЗе полно парней, это уж как положено. Выскочит Зойка замуж и сообщит мне: поздравь и пожелай счастья! Привет! Почему же она волновалась, когда от меня не было писем, даже приходила домой, к моим?
— Значит, такой у нее характер, — сказал мне Сашка, когда я выложил ему все эти соображения.
Мне от этого не стало легче. Плохо быть однолюбом.
Конечно, у Зойки характер — будь здоров! Я даже представил себе, что она скажет подругам, получив мое письмо. «Если хочешь поступить правильно, — скажет она, — выслушай мужчину и поступи наоборот». Я был уверен, что она уедет, а моего совета она спрашивала просто так, для приличия. Или чтоб не расстроить сразу этим известием. Ну и на том спасибо.
То, что Зоя уедет, и то, что я, выходит, нужен ей только как товарищ, — все это мучило меня. Впрочем, она же давно мне сказала, чтоб я ни на что не рассчитывал. Мы друзья — вот и все. А мне нужно другое. «Может быть, — подумал я, — даже лучше, если она уедет. Не буду так переживать из-за неразделенной любви. Пусть едет! Пусть выходит за какого-нибудь знаменитого крановщика или бородатого топографа». Я распалял себя злостью — и не злился. Я не мог злиться на Зойку. Разве она виновата в том, что не сумела влюбиться в меня?
Пришла смена — взмыленный, усталый Сашка, я отдал ему тулуп и спросил:
— Ну как?
— Тебе повезло, — ответил он. — Сегодня наш перестарался.
— Воспитывал Ложкова, а заодно и вас?
— Ложков послал его подальше и ушел.
— Что?
— Послал и ушел, — повторил Сашка.
— Теперь ему будет.
— Плевал он на взыскания. Ну и подарочек!
Я быстро спустился по узкой железной лестнице. Да уж, подарочек. Мне надо было спешить. Я боялся, что Сырцов может не сдержаться. Я должен быть рядом, чтоб помочь Сырцову сдержаться. Конечно, там Ленька и Эрих, но Эрих промолчит, а Ленька будет краснеть и говорить какие-нибудь стопроцентно правильные слова, которые Ложков впустит в одно ухо и выпустит из другого. У него в таких случаях сквозная проходимость,
Картинка, которую я застал, была живописной. Нарисовать такую и назвать — «Надежды нет». Ложков сидел, развалясь, у окна, Сырцов стоял, упершись руками в стол, как докладчик, — не хватало графина с водой и красной скатерти. Эрих прислонился к дверному косяку. Ленька присел в углу, подперев щеку, с такой физиономией, будто у него разболелись все зубы сразу. Когда я вошел, никто даже не взглянул на меня.
— Ну? — спросил Сырцов.
— Не запряг — не понукай, — ответил Ложков. — Я тебе не лошадь. И не подопытный кролик. Чего ты на меня одного взъелся?
— Ну, что еще?
Ложков повернулся ко мне, словно обрадовавшись свежему человеку, у которого можно найти сочувствие.
— Ты же видал, как он одного меня гонял? Ну, по-честному, видал? Это как — справедливо?
— Конечно, несправедливо, — сказал я и увидел, как просиял Ложков. Надо было выждать маленько. Надо было, чтоб и Сырцов, и Ленька, и Эрих все-таки взглянули на меня, черт возьми! — Совсем несправедливо, что он один тебя гонял. Хуже будет, если мы все начнем тебя гонять, парень.
— А, — сказал он. — И ты туда же.
— Туда же, — кивнул я. — Пойдем.
— Куда еще?
— А на улицу, — сказал я. — Мне с тобой заняться охота. Я ж на вышке четыре часа проторчал. Замерз, понимаешь. Разогреться надо.
Сырцов усмехнулся, если можно назвать усмешкой чуть растянувшиеся губы. Нет, никакой строевой сегодня больше не будет. Ложкову два наряда вне очереди. Мне и Эриху — отдыхать. А он с комсгрупоргом сядут писать родителям Ложкова. Это уж крайняя мера. Пусть отец Ложкова ответит, что он думает о сыне.
Вдруг Ложков тихо сказал:
— Не надо.
— Он ведь, кажется, тоже солдатом был?
— Да. Не надо писать. Он… он больной. Ладно, ребята, ну, психанул я… Ты меня извини, сержант. Только писать не надо.
Я остановил Сырцова.
— Отдохну потом. Ты посиди, чайку попей. А строевой я сам с Ложковым займусь. Так сказать, в порядке самоподготовки.
— Идем, Ложков.
Он встал и послушно поплелся за мной. Я поглядел на вышку. Головня, перегнувшись через поручень, так и уставился на нас, пытаясь сообразить, что же произошло и почему я, рядовой Соколов, гоняю рядового Ложкова.
Вернее, не весна, а наше ощущение весны — солнца, праздника, вертких синичек, проталин возле сосен, сосулек с крыши нашего дома. День стоял на редкость яркий, теплый; весна обрушивалась на нас, а мы не замечали ее и не радовались ей, как было еще вчера. Каждый из нас был в чем-то виноват перед Костькой, и мы плохо спали, совсем не могли есть, а Сырцов — тот вовсе не находил себе места. Он ушел утром. Сказал — расчищать снег на стрельбище. Он мог бы приказать это любому из нас, пошел сам. А мы искали работу для себя, потому что это было немыслимо: сидеть просто так. Я решил протереть отражатели, хотя три дня назад это делал Костька. Мне надо было побыть одному. Потом я пойду на вышку, сменю Эриха и снова буду один. Наверное, этого хотел не только я, иначе зачем бы Сырцову было идти расчищать снег на стрельбище, Леньке — снова колоть и складывать дрова, а Головне — мыть полы?
«Может ли с Костькой случиться самое плохое? — подумал я. — Нет, должны вытащить, вылечить, медицина все-таки сильная наука. А если не вытащат?» Не мог даже представить себе этого и гнал от себя эту мысль, а она возвращалась снова.
Ну и что из того, что все мы когда-то умрем? Когда это еще будет! Но умирать сейчас, когда ничего, собственно говоря, не сделал, не узнал, — бред, нелепость, глупость, бессмыслица, и такого не может быть. Обидно, когда умирают люди. Зачем? Дурацкий закон природы, которая чего-то не додумала, не доделала. Но если уж так положено — надо прожить здорово: вот почему Костька должен выжить.
Из глубины гаража вышел Ленька. Очевидно, он уже кончил возню с дровами, и больше ему нечего было делать.
— Тебе помочь?
Мне не надо было помогать. Я тоже кончил свою работу. Можно было посидеть просто так. Я вытащил сигареты и спички.
— Дай закурить, — попросил Ленька.
Он был некурящий. Я смотрел, как он неловко держит сигарету, прикуривает, кашляет, отводя от дыма лицо.
— Зачем тебе это нужно? — спросил я. — Для солидности что ли?
— Помнишь, он меня телком называл? — не отвечая на мой вопрос, спросил Ленька, отворачиваясь. Но я видел, что он отворачивается уже не от дыма.
— Заткнись! — крикнул я. — Что вы все, с ума посходили?!
* * *
Если мы можем выходить на связь с заставой в любое время, застава вызывает нас в определенные часы. Ждем каждого разговора Головни с заставой. Три раза в сутки обступаем стол, на котором стоит «Сокол», и смотрим на Сашку, пытаясь по его лицу угадать — как там. Костьки на заставе уже нет. Его сразу же вывезли в город на вертолете. В сознание он так и не приходил. И по тому, как мрачен Сашка, мы уже знаем: ничего нового, ничего хорошего, а восемь часов спустя снова смотрим в его лицо.
У Костьки перитонит. Никто из нас толком не знает, что это такое, а началось все, оказывается, с простого аппендицита. Сырцов долго молчит, когда Сашка передает нам это и сворачивает рацию.
— Как же он терпел? — спрашивает Сырцов. — У меня тоже был аппендицит, так я на стенку лез.
— Зачем терпел? — спрашивает Ленька.
— А может, боялся, что мы не поверим? — спрашиваю я.
Само слово «перитонит» какое-то слишком страшное. Мы ругаем Сашку за то, что он не разузнал точно, что же это значит — перитонит. Но, наверно, очень паршивая штука, если парень теряет сознание, а на заставу срочно посылают вертолет. Не зуб вырвать.
Теперь наши сутки как бы поделены на три части по восемь часов каждая. Проходит день, второй. Мы уже знаем, что перитонит — это прободение кишечника и гнойное воспаление брюшины, и что операцию Костьке делали четыре с лишним часа, и что в общем-то пока все очень плохо. Но, во-первых, там не какие-нибудь фельдшеры, а настоящие врачи. Во-вторых, если понадобится, и профессора привезут на том же вертолете из Ленинграда. В-третьих, операция уже сделана, а раз сделана, значит, всякую дрянь из Костькиного живота вытащили и где было прободение — заштопали. Просто нам надо успокаивать себя и друг друга; эти доводы кажутся нам железными, и мы понемногу успокаиваемся.
И хорошо, что Сырцов гоняет нас в эти дни так, что время проносится совершенно незаметно. Стрельбы — раз; опять строевая — два; работа с техникой — три, и я просто не верю, когда он показывает мне, как надо менять электроды. Он делает это за двадцать секунд. Потом он гоняет нас на турнике, и хуже всех приходится Леньке. Он подтягивается только три раза, и на проверке как пить дать по физподготовке схлопочет столько же — тройку. Это не Эрих. Тот выдает восемнадцать и после этого еще улыбается, чуть бледнея от усталости.
Я подтягиваюсь девять, а все эти «солнышки», двойной переворот, «завис» и у меня тоже идут туговато.
«И все равно, — думаю я, — Костька с удовольствием бы поменялся. Пусть лучше Сырцов вынимает всю душу, чем валяться на больничной койке, да еще с такой подлой болезнью».
Сырцов безжалостен. Теперь для меня самое желанное — дежурить на вышке. Это днем.
Однажды на перила вышки уселась какая-то странная птица — яркая, с забавным хохолком. Я замер, боясь вспугнуть ее. Птица сидела и глядела на меня круглым черным немигающим глазом.
— Эй, — сказал я. — Чего расселась? Отдыхаешь, что ли?
Птица повернулась на мой голос и уставилась в два глаза.
— Ты что — издалека? — Мне забавно было разговаривать с ней. Собственно, говорил-то один я, а она только крутила хохолком, прислушиваясь. — Как тебя звать?
Она стремительно сорвалась с перил и улетела, петляя между ветвями берез. Наверно, издалека, решил я. Зимой я не видел таких хохластых. Значит, весна.
Весна
В первых числах апреля начальник заставы привел к нам Ложкова. Они снова пришли на лыжах, и на Ложкове, что говорится, лица не было. Тепло, мокрый снег липнет к лыжам, и Ложков, конечно, проклинал про себя старшего лейтенанта за эту двенадцатикилометровую прогулку. Старший лейтенант провел с нами занятие — прочитал лекцию о международном положении, потом о чем-то долго толковал с Сырцовым и ушел обратно, на заставу. Ложков остался у нас. Я не понимал: какой нам от него прок? Ни с дизелем, ни с прожектором он не знаком, учить его — дело хлопотное, да и какие мы преподаватели. А сам Ложков, отдохнув малость и придя в себя, так и цветет:
— Ну, братва, заживем!
— Это почему же? — спросил я. — Может, у тебя скатерка-самобранка имеется, а? Давай не жмись, показывай.
Он захохотал и хлопнул меня по плечу.
— Остряк ты, как я погляжу!
Я не люблю, когда меня хлопают, и в свой черед хлопнул его — Ложков пошатнулся.
— Я реалист-материалист. Ясно?
Он снова захохотал. Ему было очень весело почему-то. Но больше он меня уже не хлопал. Он сел на Костькину койку и попрыгал на ней.
— Значит, этот припадочный здесь лежал? Ничего, мягко.
— Это вы о ком? — спросил Сырцов, заглядывая в спальню. Ложков потыкал большим пальцем за окно:
— Ну, о том, которого на вертолете уволокли. Я слышал — чуть не загнулся было.
Сырцов вошел в спальню, а я сел — нога на ногу, будто в первом ряду партера, потому что вот сейчас начнется действие, и я с удовольствием, с наслаждением посмотрю его от начала и до конца. Но действие начиналось очень медленно, очень медленно начала выдвигаться челюсть Сырцова, и сказал он тихо, так, что во втором ряду партера, наверно, уже не расслышали бы.
— Встать!
Ах, Ложков, до чего же мне жалко тебя! Сейчас ты получишь такую выволочку, какая, наверно, не снилась тебе в самых плохих снах. Ты-то подумал, поди, что наш Сырцов — просто вежливый человек, ежели обращается к тебе на «вы». Ах, Ложков, корешок, братишечка, зачем же ты улыбаешься и не встаешь, когда была команда «встать»? Зря ты так — или не расслышал?
— Встать!
Расслышал. Понял. Встал. Только зачем же улыбаться сейчас: или не чувствуешь, что сержант не сержант вовсе, а раскаленная железяка?
— Ты что, шумнуть на меня решил? Не надо, сержант. Я шума не люблю.
— Вот что, — сказал Сырцов. — Это койка нашего товарища рядового Короткевича. Поняли? Повторите.
— Ну брось ты, сержант! — хмыкнул Ложков. — Давай так: по службе — одно, по дружбе — другое. И не будем ссориться для знакомства.
— Повторите, — приказал Сырцов. — Чья эта койка?
— Эй, — повернулся ко мне Ложков, — подскажи, а?
— Рядового Короткевича Константина Сергеевича. Имя-отчество запомнить легко. Как у Станиславского.
— Отставить, — рявкнул на меня Сырцов. — Ну?
— Койка рядового Короткевича.
— Гак вот, Ложков, — еле сдерживая себя, сказал сержант. — Это наш товарищ. Усвоили? А не какой-то припадочный, как вы сказали. Он выздоровеет и вернется сюда, но вы — вы лично! — заменить его не можете. Вас прислали для того, чтобы не заменить Короткевича, а помочь всему личному составу расчета. Здесь народ дружный и вашей расхлябанности не потерпит.
Ложков сделал удивленное лицо и прижал руки к груди. Это он-то расхлябанный? Да кто мог возвести на него такой поклеп? Сырцов перебил его:
— Сколько у вас взысканий?
— Точно не помню.
— А по-моему, ими уже комнату можно оклеить, — сказал Сырцов.
И мне стало грустно. Значит, этого Ложкова к нам прислали на перевоспитание? И будем мы с ним мучиться, будем ругаться, вытряхивать дурь, тратить на него свои нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются. Конечно, у старшего лейтенанта свои соображения.
Когда Сырцов вышел, он спросил:
— Сердитый мужик, да?
— А ты его не серди. Помнишь, ты мне сказал: «Солдат спит — служба идет». Этого у нас не любят.
Он покосился на меня и хмыкнул:
— Ну да, не любят! Рассказывай бабушке! Где это видано, чтоб солдат не сачканул при первой возможности? И этот ваш Станиславский, наверно, тоже больше придуривался, чем на самом деле болел.
— Слушай, Ложков, тебя отец часто драл?
— Не очень.
— Жаль, — сказал я. — Это заметно. Очень жаль!
Больше мне не хотелось с ним разговаривать. Поймет что к чему — хорошо; не поймет — ему же будет плохо. А я здесь ни при чем, и говорить нам больше не о чем.
Письма
От Зои (девятое)
«Здравствуй, Володя! Вот и весна пришла. В Ленинграде уже совсем нет снега, а вчера прошел дождь. Но это к слову, потому что я не люблю говорить о погоде. О ней говорят, когда больше не о чем.
Я пишу тебе посоветоваться: как мне быть дальше? Конечно, Ленинград — это здорово, и работа у меня хорошая, но все время живу с ощущением, будто мимо меня проходит что-то очень важное, а может быть, даже главное. Как будто я стою в стороне, хотя понимаю, что это не так и что моя работа тоже нужна в Ленинграде. Но…
Сейчас всюду говорят и пишут про КамАЗ. Читал? И вот я задумалась: может, именно там мое Самое главное? Некоторые ребята — строители, которые покрепче и которые не считают, что жить надо «обязательно в Ленинграде», уже поехали туда, на КамАЗ. Я получила от них письмо — зовут. Строительство там огромное, и отделочники очень нужны.
Конечно, не так просто сорваться с места, оставить бригаду и уехать. Тут надо все решить для себя по совести, а друзья могут помочь в таком решении. Что скажешь ты?
Спасибо за подробное письмо, в котором ты рассказал о жизни Саши. Я понимаю, почему он не хочет после службы возвращаться домой, и написала ему, что место для него найдется всюду, на том же КамАЗе. Вообще, конечно, парня здорово жалко, что у него такая неудачная судьба, но он теперь сам ее полный хозяин. Может быть, напишете мне вместе?..»
Мое — маме и Коляничу
«Салют, родители!
Что-то не радуете вы меня своими письмами. Понимаю, что Колянич замотан, а у мамы привычка сваливать обязанность писать мне на него. Очевидно, после этого письма будет большой перерыв, пока не сойдет лед и не начнет ходить катер. Так что не волнуйтесь, если долго не будет писем.
У меня все в порядке. Жив и вполне здоров. В Ленинграде в такую погоду обязательно бы подхватил насморк, а здесь сидим голые до пояса на солнце, обтираемся последним снегом — и ничего.
Есть у меня к вам дело, очень важное.
Вчера вечером нам передали, что у нашего сержанта Сырцова родилась сестренка. Сам он старший, есть четверо братьев, и все они думали, что будет шестой брат, а родилась девчонка, и мы скинулись, кто сколько мог, на подарок. Так что вместе с письмом получите перевод на 47 рублей, и я прошу маму купить для сестренки, что положено. Мама, наверно, знает. Отослать нужно по адресу: Коми АССР, Березовский леспромхоз, Сырцовым. И положить красивую открытку с надписью: «От солдат-пограничников расчета сержанта Сырцова. Расти, сестренка, большая, здоровая и хорошая».
* * *
Правильно поют: «Мне сверху видно все…» Сверху, с вышки, весна была заметнее. Синие тени лежали в лесу; снег сползал с нашего острова, и на склонах уже виднелась земля со смятой прошлогодней травой. Ночью мы слышали какие-то гулкие удары — сейчас, на вышке, я понял, в чем дело: ветром разломало лед, и это гремели, сталкиваясь, тяжелые льдины. Сырцов предупредил, что должны начаться штормы и чтобы мы были готовы. В прошлом году, оказывается, с нашего дома сорвало крышу. Будто шапку скинуло. Хорошенькое дело! Особенно весело в такую погоду будет здесь, на вышке.
Я видел, как медленно ползут разломанные льдины. Это было похоже на какой-то прощальный танец. Только у берега лед еще лежал прочно, но и эта прочность была кажущейся: он был в трещинах и цеплялся за прибрежные камни.
Перед домом на чистой от снега поляне Сырцов проводил строевую. Я не слышал команд, слова относило ветром. Но видел, как терзает сержант ребят. Отрабатывает шаг, повороты, перестроение. Эта весенняя проверка будет для него последней. Он — «дед»; в мае придет приказ министра обороны, и Сырцов начнет собираться в свой Березовский леспромхоз. Кого-то пришлют вместо него?
А пока он особенно терзает Ложкова, и это понятно. Точно так же поначалу он вел себя со мной. Не могу сказать, чтобы тогда мне это очень нравилось. Ложкову тоже не нравится. Вчера он при всех грохнул сержанту: «Чего ты из себя начальство корчишь? Такой же, как и мы, а корчишь на рупь двадцать». Сырцов медленно обвел нас глазами. Это было за обедом. Мы одновременно отложили ложки. Я подумал, что на второе у нас будет отбивная из Ложкова. Эх, нельзя пошутить вслух, не та обстановка!
— Вот что, Ложков, — сказал, краснея, Ленька. — Раз уж ты к нам попал, живи, как мы. Ведь иначе-то худо будет только тебе одному.
— Темную сделаете? — поинтересовался Ложков.
— Разговаривать с тобой не будем, — сказал Сашка.
— Усек? — спросил я.
Странный он человек, Ложков. Любит хлопать по плечу и обращаться не иначе, как «эй, друг». Сунулся было к Эриху, а тот спокойно ответил: «Подождать надо». Ложков улыбался, не понимая — чего подождать? «Дружбы», — коротко отрезал Эрих и пошел прочь, а Ложков по инерции продолжал улыбаться ему вслед.
Да, Эрка прав. Мы еще не называем Ложкова по имени, а только вот так — Ложков. И когда мы скидывались на подарок сестренке, он не дал ни копейки. «Откуда у меня деньги? Солдату они ни к чему». Ну, на нет и суда нет. Хотя, наверно, какие-то рубли у него все-таки водятся. Пожадничал или не захотел давать именно для Сырцова?
…Там, внизу, на поляне, Сырцов гоняет Ложкова, и вовсе не потому, что он зол на него, а потому, что у Ложкова все получается хуже, чем у других. Он весь какой-то тюфякообразный. Идешь рядом с ним в строю, а он заваливается на сторону, толкается, сбивает шаг. Из-за него приходится повторять снова и снова. Как будто бы его ничему не учили ни на учебном пункте, ни на заставе. Или он здорово сачковал? У нас это не пройдет, каждый на виду, и здесь быстро выскакивает наружу все, что в ком есть.
Мне нельзя долго глядеть вниз: не дай бог, Сырцов заметит, что я любуюсь на строевую. Я берусь за ручки бинокулярной трубы, и в оптике — совсем близко, так близко, что, кажется, можно дотронуться рукой, — льды, льды и льды. Разорванные, торчком стоящие, наваливающиеся одна на другую льдины и ничего больше. По ним не пройти, их не объехать. Кто рискнет сунуться через эти смертельные льды?
Я написал Зое отчаянное письмо. Просил ее не уезжать. Но, наверно, она все-таки уедет. Сашка сник, когда я сказал ему, что Зоя собирается на КамАЗ. Ему-то чего сникать? Он ведь ее даже в глаза не видел. Ну, будет получать письма из Набережных Челнов, а не из Ленинграда — какая ему разница? Я же чувствовал, что Зоя уезжает от меня, вот в чем штука. На КамАЗе полно парней, это уж как положено. Выскочит Зойка замуж и сообщит мне: поздравь и пожелай счастья! Привет! Почему же она волновалась, когда от меня не было писем, даже приходила домой, к моим?
— Значит, такой у нее характер, — сказал мне Сашка, когда я выложил ему все эти соображения.
Мне от этого не стало легче. Плохо быть однолюбом.
Конечно, у Зойки характер — будь здоров! Я даже представил себе, что она скажет подругам, получив мое письмо. «Если хочешь поступить правильно, — скажет она, — выслушай мужчину и поступи наоборот». Я был уверен, что она уедет, а моего совета она спрашивала просто так, для приличия. Или чтоб не расстроить сразу этим известием. Ну и на том спасибо.
То, что Зоя уедет, и то, что я, выходит, нужен ей только как товарищ, — все это мучило меня. Впрочем, она же давно мне сказала, чтоб я ни на что не рассчитывал. Мы друзья — вот и все. А мне нужно другое. «Может быть, — подумал я, — даже лучше, если она уедет. Не буду так переживать из-за неразделенной любви. Пусть едет! Пусть выходит за какого-нибудь знаменитого крановщика или бородатого топографа». Я распалял себя злостью — и не злился. Я не мог злиться на Зойку. Разве она виновата в том, что не сумела влюбиться в меня?
Пришла смена — взмыленный, усталый Сашка, я отдал ему тулуп и спросил:
— Ну как?
— Тебе повезло, — ответил он. — Сегодня наш перестарался.
— Воспитывал Ложкова, а заодно и вас?
— Ложков послал его подальше и ушел.
— Что?
— Послал и ушел, — повторил Сашка.
— Теперь ему будет.
— Плевал он на взыскания. Ну и подарочек!
Я быстро спустился по узкой железной лестнице. Да уж, подарочек. Мне надо было спешить. Я боялся, что Сырцов может не сдержаться. Я должен быть рядом, чтоб помочь Сырцову сдержаться. Конечно, там Ленька и Эрих, но Эрих промолчит, а Ленька будет краснеть и говорить какие-нибудь стопроцентно правильные слова, которые Ложков впустит в одно ухо и выпустит из другого. У него в таких случаях сквозная проходимость,
Картинка, которую я застал, была живописной. Нарисовать такую и назвать — «Надежды нет». Ложков сидел, развалясь, у окна, Сырцов стоял, упершись руками в стол, как докладчик, — не хватало графина с водой и красной скатерти. Эрих прислонился к дверному косяку. Ленька присел в углу, подперев щеку, с такой физиономией, будто у него разболелись все зубы сразу. Когда я вошел, никто даже не взглянул на меня.
— Ну? — спросил Сырцов.
— Не запряг — не понукай, — ответил Ложков. — Я тебе не лошадь. И не подопытный кролик. Чего ты на меня одного взъелся?
— Ну, что еще?
Ложков повернулся ко мне, словно обрадовавшись свежему человеку, у которого можно найти сочувствие.
— Ты же видал, как он одного меня гонял? Ну, по-честному, видал? Это как — справедливо?
— Конечно, несправедливо, — сказал я и увидел, как просиял Ложков. Надо было выждать маленько. Надо было, чтоб и Сырцов, и Ленька, и Эрих все-таки взглянули на меня, черт возьми! — Совсем несправедливо, что он один тебя гонял. Хуже будет, если мы все начнем тебя гонять, парень.
— А, — сказал он. — И ты туда же.
— Туда же, — кивнул я. — Пойдем.
— Куда еще?
— А на улицу, — сказал я. — Мне с тобой заняться охота. Я ж на вышке четыре часа проторчал. Замерз, понимаешь. Разогреться надо.
Сырцов усмехнулся, если можно назвать усмешкой чуть растянувшиеся губы. Нет, никакой строевой сегодня больше не будет. Ложкову два наряда вне очереди. Мне и Эриху — отдыхать. А он с комсгрупоргом сядут писать родителям Ложкова. Это уж крайняя мера. Пусть отец Ложкова ответит, что он думает о сыне.
Вдруг Ложков тихо сказал:
— Не надо.
— Он ведь, кажется, тоже солдатом был?
— Да. Не надо писать. Он… он больной. Ладно, ребята, ну, психанул я… Ты меня извини, сержант. Только писать не надо.
Я остановил Сырцова.
— Отдохну потом. Ты посиди, чайку попей. А строевой я сам с Ложковым займусь. Так сказать, в порядке самоподготовки.
— Идем, Ложков.
Он встал и послушно поплелся за мной. Я поглядел на вышку. Головня, перегнувшись через поручень, так и уставился на нас, пытаясь сообразить, что же произошло и почему я, рядовой Соколов, гоняю рядового Ложкова.
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
Строгий с занесением
Всю ночь лил дождь. Он прекращался на несколько минут, а потом начинался с новой силой. Мы измучились на прожекторной. Плащи промокли и весили по пуду, не меньше. Дождь был ледяной, мы замерзли так, как не мерзли всю прошедшую зиму. Можно было сто раз проклинать эту погоду — но ничего нельзя было изменить. К рассвету мы дрожали, как щенята. Не сгибались замерзшие пальцы. Я вообще не чувствовал их. Тогда, когда пришлось прошагать двадцать с лишним километров, и то было легче. Мы правильно сделали, что послали Леньку на дизель. Он бы не выдержал, наверное. Даже Эрих — и тот скис к утру.
Утром мы вкатили прожектор в гараж, и на это, должно быть, ушли последние силенки. Спать, спать, спать!.. Переодеться и спать. Но, оказалось, надо было еще растопить печку: за ночь из дома выдуло все тепло. Пусть топит Ленька. Он-то сухой и всю ночь маялся от жары. Когда работает АДГ, в «машинном», как в пустыне Сахара.
Мне положено всего четыре часа отдыха. Потом нужно снова идти в гараж и приводить в порядок прожектор. Просто моя очередь. Я проспал бы, наверно, сутки, и, когда Ложков разбудил меня, проклинал его на чем свет стоит. Просыпался с таким трудом, будто у меня вместо головы была чугунная гудящая болванка. Спать, спать… Эти четыре часа не принесли облегчения — наоборот, лучше бы вовсе не ложиться, чем проснуться таким разбитым.
— Давай, давай, двигай, — радовался Ложков. Ему-то что, Он дрыхнул себе всю ночь, и даже не удосужился печку протопить — не его очередь. Ночью его не посылают даже на вышку. Он просто не умеет «идти» за лучом. Днем — другое дело.
Дождь не кончался, а мой плащ не высох. Пришлось надевать на себя этот пуд. В сапогах тоже было болото, теплые портянки не спасали — простуда обеспечена, хотя утром Сырцов приказал нам принять аспирин. Вот бы сейчас сюда мою маму. Вот бы кто ахал и «принимал меры».
Конечно, Сырцов мог бы изменить распорядок ради такого случая и не заставлять меня работать. Ничего с прожектором не случилось, если бы я занялся им на несколько часов позже. Не заржавел бы. Он и так уже был сухой. Я проверил держатели, сменил электроды, осмотрел контакты — все в порядке. На всякий случай потер кожух сухой тряпкой. Все! Хватит с меня. Сегодня пятница — банный день. Буду париться, пока не выгоню из себя всю дрожь. Видимо, я все-таки простыл: губы потрескались и болели, а сухой кашель так и раздирал горло. Да, мама сразу уложила бы меня в постель, вызвала врача, поила теплым молоком и чаем с малиной и заставила надеть носки с насыпанной туда сухой горчицей. Забавно живут люди на гражданке.
Дождь перестал только к вечеру; он смыл с острова остатки снега, было непривычно видеть голую землю и лужи, в которых плавали прошлогодние листья. После бани мы пришли в себя, даже Эрих повеселел и что-то напевал под нос, разглаживая здоровенным «угольным» утюгом брюки. Он пижон, Эрих. Зачем ему понадобилось гладить брюки? Высохли — и то хорошо! Нет — ему складочка нужна! Будто на танцы собирается, а не на службу. И брюки-то у него такие же, как у нас — б/у, бывшие в употреблении. Пижон! И пахнет от него «Элладой», как от хорошего парфюмерного магазина.
Странно: я ведь даже не знаю, есть ли у него девушка. Наверное, есть. Мы никогда не говорили об этом.
— Эрка, ты на свидание, что ли?
— Да. В самоволку.
— Как ее зовут?
— Марта.
— Рыбачка?
— Учительница. Будущая.
Он отвечал охотно, я даже, немного растерялся — вот тебе и молчун! Он словно бы ждал, что кто-нибудь спросит его об этом, молчун несчастный! Полгода его никто не спрашивал, а он молчал, хотя, наверно, самому ужасно хотелось рассказать, что у него есть Марта, будущая учительница. Студентка, что ли? Да, студентка.
— Эрка, а я ведь о тебе кое-что знаю.
— Что?
Я оглядел своих ребят. Все сидели красные, распаренные, разомлевшие. В самый раз рассказать. Ну да, конечно, он же из того самого анекдота. Он до пятнадцати лет вообще ничего не говорил. Родители уже смирились было: немой… А однажды в жаркий день все пили холодное пиво, и тогда Эрка сказал: «Мне тоже». Родители даже испугались. «Эрих, сынок, почему ты молчал пятнадцать лет?» — «Надобности не было», — ответил он.
Ребята смеялись, Эрих улыбался. Складка на его брюках была острой, как лезвие. Сырцов тоже взялся за утюг, и я ехидно спросил его, почему он раньше не гладил свои брюки.
— Надобности не было, — серьезно ответил Сырцов.
А через полчаса хорошего настроения как не бывало. Поначалу все происходило обычно: мы выкатили прожектор, сняли чехол. Ленька «мигнул» в «машинное» — пустить дизель, я врубил ток, и тогда раздался резкий короткий треск. Прожектор не зажегся. Еще ничего не понимая, Сырцов повернулся ко мне и спросил:
— Что у тебя?
— Замыкание, — сказал я, холодея. Ничего хуже произойти не могло. И в том, что произошло, была только моя вина. Это я сообразил сразу.
На прожекторе контактные кольца расположены внизу, и, если туда попадает влага, происходит замыкание, сгорают щетки и кольца. Я обязан был вынуть пробки, слить воду — и не сделал этого. Теперь придется перебирать секции. Работы часа на четыре или пять. Это значит, что четыре или пять часов мы не будем просматривать границу.
Сырцов вынул пробки — хлынула вода.
— Так, — сказал Сырцов. Больше он ничего не сказал. Ленька глядел на меня тоскующими глазами. Ему было жалко меня. Сырцов подумал о чем-то и ушел. Сейчас Сашка Головня вызовет по рации заставу, а Сырцов доложит, что у нас ЧП. Он обязан доложить о нем, и по чьей вине это ЧП — тоже.
Но даже если бы Сырцов захотел скрыть аварию и выручить меня, он не сможет сделать этого. На заставе все равно увидят, что прожектор не работает.
Ленька тронул меня за плечо.
— Как же ты?
Что я мог ответить ему? Что устал, что не выспался, что хотелось скорее в тепло, в дом, что думал совсем не о деле. Так оно и было, и незачем выкручиваться. Я и не собирался выкручиваться. Мне, конечно, дадут на всю катушку, но дело не в этом. Дело в том, что пять часов мы не будем просматривать границу.
…И вот мы сидим — все, кроме Ложкова, который сейчас на вышке. Сидим за столом, и я — отдельно от всех. Я смотрю на Ленькин хохолок и вижу только его. Хохолок у Леньки точь-в-точь такой же, как у той птицы, которая недавно прилетала на вышку. Но у Леньки он сердитый и топорщится, когда Ленька открывает комсомольское собрание.
— На повестке дня один вопрос, — доносится до меня. — О халатности рядового Соколова. Есть другие мнения?
Других мнений нет.
— Доложи, как было дело?
Я встаю — они сидят. Они сидят мрачные, снова уставшие до чертиков, потому что секции мы перебрали не за четыре и не за пять, а за семь часов. Семь часов работы без единого перекура! И мне нечего докладывать, они великолепно знают сами. Ленькин хохолок торчит и дрожит, или это мне кажется, что дрожит.
— Может быть, у тебя есть какие-нибудь оправдания?
Я машу рукой. Какие еще оправдания?
— Но ведь ты не мог забыть, чему нас учили?
— Значит, забыл.
— А вот это не оправдание, — говорит Эрих. — Ты не мог забыть. Не имел права.
— Не имел, — соглашается Сашка. Молчит только один Сырцов, но лучше бы он тоже что-нибудь сказал. Мне было бы легче.
— Ты-то сам понимаешь, что произошло?
Это снова Ленька. Зачем он спрашивает об этом? Как будто сам не знает, понимаю я или мне все до лампочки?
— Погоди, — наконец-то говорит Сырцов. Он не встает, он только смотрит на меня снизу вверх, а я не могу поглядеть ему в глаза. — Я думаю, Соколов понимает, и это уже хорошо. Но мы тоже должны понять, что простить ему за красивые глазки не можем. Тут все слова на своем месте стоят. Была халатность? Была. Семь часов границу не смотрели.
— Это еще не все, — говорит Ленька.
Я снова разглядываю его хохолок: что же еще я натворил? Хватит и этого. Но у Леньки все расписано. Семь часов работал дизель, потому что нам был нужен свет, и у нас перерасход горючего. Комендант участка приказал выслать на охрану границы усиленные наряды — стало быть, сколько солдат было задействовано в эту ночь из-за меня.
— Понимаешь, твои же товарищи, вместо того чтобы отдыхать, несли службу, — и все потому, что тебе самому хотелось выспаться!
Кажется, все. Больше говорить не о чем. «Ну, скорее же, скорее кончайте», — думаю я. Эрих поднимает руку, как школьник на уроке, и Ленька кивает: давай.
— Как имя твоей матери? Как девушку твою зовут? Помнишь? А где ты служишь — забыл?
Мне хочется крикнуть им, что ничего я не забыл. Не склеротик же я какой-нибудь, хватит мучить меня, я и так уже измучился сам. А тут еще Сашка — тоже хочет высказаться. Никто же не просит его высказываться! Что я, Ложков, что ли, чтобы меня растаскивать по кускам?
— Хуже не придумаешь, — говорит он, а мне кажется, что его голос доносится из другой комнаты. — Оставил границу без глаз. Скрывать не буду. Сырцов всю вину взял на себя. Так и велел доложить начальнику заставы: не обеспечил проверку ухода за техникой. ***
— Это к делу не относится, — резко обрывает его Сырцов.
— Нет, относится. Ты решил выгородить товарища, пусть это знают все, и он в том числе.
— Я его не выгораживал. Я на самом деле не обеспечил проверку — факт же! И должен за это отвечать.
Ах, Сырцов, на кой тебе это? Ведь тебя-то не на комсомольском, тебя на партийном собрании будут чехвостить! И на парткомиссию тебя еще должны вызвать — за Костьку, а ты еще выгораживаешь меня.
— Все высказались? — теперь Ленька встает. В руках у него листок бумаги, и этот листок тоже дрожит, как хохолок на Ленькиной маковке. — Предлагаю проект решения…
Его голос тоже доносится до меня как бы из другой комнаты, из-за закрытых дверей; я улавливаю только отдельные, не связанные между собой слова.
— …допустил халатность… что привело к порче вверенной ему… комсомольское собрание… строгий выговор с занесением в личное дело… Кто за это предложение, прошу голосовать.
Поднимают руки все. И я тоже поднимаю свою руку. Я имею право голосовать за это наказание — не мне, а тому рядовому Соколову, который вчера допустил преступную халатность. Потому что сегодня рядовой Соколов в чем-то уже другой — вот только совсем ни к чему этот комок в горле, который никак не проглотить рядовому Соколову.
Весна (продолжение)
Мы можем подолгу стоять на камнях, подняв голову и не сводя глаз с неба. Началось чудо. Оно началось ночью, когда я, проснувшись, услышал какие-то трубные голоса и выскочил на крыльцо. В темноте ничего не было видно, но трубные голоса раздавались сверху. День и ночь, день и ночь над нами летят утки, маленькие чирки и большие, с белыми подкрыльями, крохали. Тянут дикие гуси — это их клики я услышал ночью. Журавлиный клин рассек небо и скрылся вдали, а жаль — мне хотелось бы поглядеть на журавлей поближе, но им, наверное, нужны болота, а у нас на острове — камни да мхи… Потом пролетели лебеди: будто надвинулось белое облако и растворилось за горизонтом. Они кричали радостно и победно, словно уже видели оттуда, сверху, места своих гнездовий и спешили — скорей, скорей, отдохнуть после нелегкого пути и дать новую жизнь таким же красавцам, как они сами… Скорей, скорей!
Усталые стаи опускались на воду возле острова, совсем близко, а потом птицы словно бы начинали бежать по воде и снова поднимались ввысь. Скорей, скорей! Я видел с вышки, как по льду, который еще лежал между прибрежных камней, крадется к стае лиса. У нас на острове есть лиса! Я крикнул — и стая поднялась, а лиса повернула свою остроносую мордочку и долго глядела на меня, словно недоумевая, зачем я оставил ее без обеда. Ничего, лучше лови мышей, рыжая!
И еще радость — пришел катер…
Всю ночь лил дождь. Он прекращался на несколько минут, а потом начинался с новой силой. Мы измучились на прожекторной. Плащи промокли и весили по пуду, не меньше. Дождь был ледяной, мы замерзли так, как не мерзли всю прошедшую зиму. Можно было сто раз проклинать эту погоду — но ничего нельзя было изменить. К рассвету мы дрожали, как щенята. Не сгибались замерзшие пальцы. Я вообще не чувствовал их. Тогда, когда пришлось прошагать двадцать с лишним километров, и то было легче. Мы правильно сделали, что послали Леньку на дизель. Он бы не выдержал, наверное. Даже Эрих — и тот скис к утру.
Утром мы вкатили прожектор в гараж, и на это, должно быть, ушли последние силенки. Спать, спать, спать!.. Переодеться и спать. Но, оказалось, надо было еще растопить печку: за ночь из дома выдуло все тепло. Пусть топит Ленька. Он-то сухой и всю ночь маялся от жары. Когда работает АДГ, в «машинном», как в пустыне Сахара.
Мне положено всего четыре часа отдыха. Потом нужно снова идти в гараж и приводить в порядок прожектор. Просто моя очередь. Я проспал бы, наверно, сутки, и, когда Ложков разбудил меня, проклинал его на чем свет стоит. Просыпался с таким трудом, будто у меня вместо головы была чугунная гудящая болванка. Спать, спать… Эти четыре часа не принесли облегчения — наоборот, лучше бы вовсе не ложиться, чем проснуться таким разбитым.
— Давай, давай, двигай, — радовался Ложков. Ему-то что, Он дрыхнул себе всю ночь, и даже не удосужился печку протопить — не его очередь. Ночью его не посылают даже на вышку. Он просто не умеет «идти» за лучом. Днем — другое дело.
Дождь не кончался, а мой плащ не высох. Пришлось надевать на себя этот пуд. В сапогах тоже было болото, теплые портянки не спасали — простуда обеспечена, хотя утром Сырцов приказал нам принять аспирин. Вот бы сейчас сюда мою маму. Вот бы кто ахал и «принимал меры».
Конечно, Сырцов мог бы изменить распорядок ради такого случая и не заставлять меня работать. Ничего с прожектором не случилось, если бы я занялся им на несколько часов позже. Не заржавел бы. Он и так уже был сухой. Я проверил держатели, сменил электроды, осмотрел контакты — все в порядке. На всякий случай потер кожух сухой тряпкой. Все! Хватит с меня. Сегодня пятница — банный день. Буду париться, пока не выгоню из себя всю дрожь. Видимо, я все-таки простыл: губы потрескались и болели, а сухой кашель так и раздирал горло. Да, мама сразу уложила бы меня в постель, вызвала врача, поила теплым молоком и чаем с малиной и заставила надеть носки с насыпанной туда сухой горчицей. Забавно живут люди на гражданке.
Дождь перестал только к вечеру; он смыл с острова остатки снега, было непривычно видеть голую землю и лужи, в которых плавали прошлогодние листья. После бани мы пришли в себя, даже Эрих повеселел и что-то напевал под нос, разглаживая здоровенным «угольным» утюгом брюки. Он пижон, Эрих. Зачем ему понадобилось гладить брюки? Высохли — и то хорошо! Нет — ему складочка нужна! Будто на танцы собирается, а не на службу. И брюки-то у него такие же, как у нас — б/у, бывшие в употреблении. Пижон! И пахнет от него «Элладой», как от хорошего парфюмерного магазина.
Странно: я ведь даже не знаю, есть ли у него девушка. Наверное, есть. Мы никогда не говорили об этом.
— Эрка, ты на свидание, что ли?
— Да. В самоволку.
— Как ее зовут?
— Марта.
— Рыбачка?
— Учительница. Будущая.
Он отвечал охотно, я даже, немного растерялся — вот тебе и молчун! Он словно бы ждал, что кто-нибудь спросит его об этом, молчун несчастный! Полгода его никто не спрашивал, а он молчал, хотя, наверно, самому ужасно хотелось рассказать, что у него есть Марта, будущая учительница. Студентка, что ли? Да, студентка.
— Эрка, а я ведь о тебе кое-что знаю.
— Что?
Я оглядел своих ребят. Все сидели красные, распаренные, разомлевшие. В самый раз рассказать. Ну да, конечно, он же из того самого анекдота. Он до пятнадцати лет вообще ничего не говорил. Родители уже смирились было: немой… А однажды в жаркий день все пили холодное пиво, и тогда Эрка сказал: «Мне тоже». Родители даже испугались. «Эрих, сынок, почему ты молчал пятнадцать лет?» — «Надобности не было», — ответил он.
Ребята смеялись, Эрих улыбался. Складка на его брюках была острой, как лезвие. Сырцов тоже взялся за утюг, и я ехидно спросил его, почему он раньше не гладил свои брюки.
— Надобности не было, — серьезно ответил Сырцов.
А через полчаса хорошего настроения как не бывало. Поначалу все происходило обычно: мы выкатили прожектор, сняли чехол. Ленька «мигнул» в «машинное» — пустить дизель, я врубил ток, и тогда раздался резкий короткий треск. Прожектор не зажегся. Еще ничего не понимая, Сырцов повернулся ко мне и спросил:
— Что у тебя?
— Замыкание, — сказал я, холодея. Ничего хуже произойти не могло. И в том, что произошло, была только моя вина. Это я сообразил сразу.
На прожекторе контактные кольца расположены внизу, и, если туда попадает влага, происходит замыкание, сгорают щетки и кольца. Я обязан был вынуть пробки, слить воду — и не сделал этого. Теперь придется перебирать секции. Работы часа на четыре или пять. Это значит, что четыре или пять часов мы не будем просматривать границу.
Сырцов вынул пробки — хлынула вода.
— Так, — сказал Сырцов. Больше он ничего не сказал. Ленька глядел на меня тоскующими глазами. Ему было жалко меня. Сырцов подумал о чем-то и ушел. Сейчас Сашка Головня вызовет по рации заставу, а Сырцов доложит, что у нас ЧП. Он обязан доложить о нем, и по чьей вине это ЧП — тоже.
Но даже если бы Сырцов захотел скрыть аварию и выручить меня, он не сможет сделать этого. На заставе все равно увидят, что прожектор не работает.
Ленька тронул меня за плечо.
— Как же ты?
Что я мог ответить ему? Что устал, что не выспался, что хотелось скорее в тепло, в дом, что думал совсем не о деле. Так оно и было, и незачем выкручиваться. Я и не собирался выкручиваться. Мне, конечно, дадут на всю катушку, но дело не в этом. Дело в том, что пять часов мы не будем просматривать границу.
…И вот мы сидим — все, кроме Ложкова, который сейчас на вышке. Сидим за столом, и я — отдельно от всех. Я смотрю на Ленькин хохолок и вижу только его. Хохолок у Леньки точь-в-точь такой же, как у той птицы, которая недавно прилетала на вышку. Но у Леньки он сердитый и топорщится, когда Ленька открывает комсомольское собрание.
— На повестке дня один вопрос, — доносится до меня. — О халатности рядового Соколова. Есть другие мнения?
Других мнений нет.
— Доложи, как было дело?
Я встаю — они сидят. Они сидят мрачные, снова уставшие до чертиков, потому что секции мы перебрали не за четыре и не за пять, а за семь часов. Семь часов работы без единого перекура! И мне нечего докладывать, они великолепно знают сами. Ленькин хохолок торчит и дрожит, или это мне кажется, что дрожит.
— Может быть, у тебя есть какие-нибудь оправдания?
Я машу рукой. Какие еще оправдания?
— Но ведь ты не мог забыть, чему нас учили?
— Значит, забыл.
— А вот это не оправдание, — говорит Эрих. — Ты не мог забыть. Не имел права.
— Не имел, — соглашается Сашка. Молчит только один Сырцов, но лучше бы он тоже что-нибудь сказал. Мне было бы легче.
— Ты-то сам понимаешь, что произошло?
Это снова Ленька. Зачем он спрашивает об этом? Как будто сам не знает, понимаю я или мне все до лампочки?
— Погоди, — наконец-то говорит Сырцов. Он не встает, он только смотрит на меня снизу вверх, а я не могу поглядеть ему в глаза. — Я думаю, Соколов понимает, и это уже хорошо. Но мы тоже должны понять, что простить ему за красивые глазки не можем. Тут все слова на своем месте стоят. Была халатность? Была. Семь часов границу не смотрели.
— Это еще не все, — говорит Ленька.
Я снова разглядываю его хохолок: что же еще я натворил? Хватит и этого. Но у Леньки все расписано. Семь часов работал дизель, потому что нам был нужен свет, и у нас перерасход горючего. Комендант участка приказал выслать на охрану границы усиленные наряды — стало быть, сколько солдат было задействовано в эту ночь из-за меня.
— Понимаешь, твои же товарищи, вместо того чтобы отдыхать, несли службу, — и все потому, что тебе самому хотелось выспаться!
Кажется, все. Больше говорить не о чем. «Ну, скорее же, скорее кончайте», — думаю я. Эрих поднимает руку, как школьник на уроке, и Ленька кивает: давай.
— Как имя твоей матери? Как девушку твою зовут? Помнишь? А где ты служишь — забыл?
Мне хочется крикнуть им, что ничего я не забыл. Не склеротик же я какой-нибудь, хватит мучить меня, я и так уже измучился сам. А тут еще Сашка — тоже хочет высказаться. Никто же не просит его высказываться! Что я, Ложков, что ли, чтобы меня растаскивать по кускам?
— Хуже не придумаешь, — говорит он, а мне кажется, что его голос доносится из другой комнаты. — Оставил границу без глаз. Скрывать не буду. Сырцов всю вину взял на себя. Так и велел доложить начальнику заставы: не обеспечил проверку ухода за техникой. ***
— Это к делу не относится, — резко обрывает его Сырцов.
— Нет, относится. Ты решил выгородить товарища, пусть это знают все, и он в том числе.
— Я его не выгораживал. Я на самом деле не обеспечил проверку — факт же! И должен за это отвечать.
Ах, Сырцов, на кой тебе это? Ведь тебя-то не на комсомольском, тебя на партийном собрании будут чехвостить! И на парткомиссию тебя еще должны вызвать — за Костьку, а ты еще выгораживаешь меня.
— Все высказались? — теперь Ленька встает. В руках у него листок бумаги, и этот листок тоже дрожит, как хохолок на Ленькиной маковке. — Предлагаю проект решения…
Его голос тоже доносится до меня как бы из другой комнаты, из-за закрытых дверей; я улавливаю только отдельные, не связанные между собой слова.
— …допустил халатность… что привело к порче вверенной ему… комсомольское собрание… строгий выговор с занесением в личное дело… Кто за это предложение, прошу голосовать.
Поднимают руки все. И я тоже поднимаю свою руку. Я имею право голосовать за это наказание — не мне, а тому рядовому Соколову, который вчера допустил преступную халатность. Потому что сегодня рядовой Соколов в чем-то уже другой — вот только совсем ни к чему этот комок в горле, который никак не проглотить рядовому Соколову.
Весна (продолжение)
Мы можем подолгу стоять на камнях, подняв голову и не сводя глаз с неба. Началось чудо. Оно началось ночью, когда я, проснувшись, услышал какие-то трубные голоса и выскочил на крыльцо. В темноте ничего не было видно, но трубные голоса раздавались сверху. День и ночь, день и ночь над нами летят утки, маленькие чирки и большие, с белыми подкрыльями, крохали. Тянут дикие гуси — это их клики я услышал ночью. Журавлиный клин рассек небо и скрылся вдали, а жаль — мне хотелось бы поглядеть на журавлей поближе, но им, наверное, нужны болота, а у нас на острове — камни да мхи… Потом пролетели лебеди: будто надвинулось белое облако и растворилось за горизонтом. Они кричали радостно и победно, словно уже видели оттуда, сверху, места своих гнездовий и спешили — скорей, скорей, отдохнуть после нелегкого пути и дать новую жизнь таким же красавцам, как они сами… Скорей, скорей!
Усталые стаи опускались на воду возле острова, совсем близко, а потом птицы словно бы начинали бежать по воде и снова поднимались ввысь. Скорей, скорей! Я видел с вышки, как по льду, который еще лежал между прибрежных камней, крадется к стае лиса. У нас на острове есть лиса! Я крикнул — и стая поднялась, а лиса повернула свою остроносую мордочку и долго глядела на меня, словно недоумевая, зачем я оставил ее без обеда. Ничего, лучше лови мышей, рыжая!
И еще радость — пришел катер…
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
Письма
От Зои (десятое)
«Дорогие мальчики! Опять от вас долго ничего нет, но я уже не очень волнуюсь. Знаю, как вам служится, и потому не только не волнуюсь, но и не сержусь.
Я еще в Ленинграде. Никак не отпускают меня на КамАЗ! Хожу, спорю, даже ругаюсь. По закону я имею право уйти с работы, но меня уговаривают остаться хотя бы до осени. Не знаю, удастся ли уехать раньше. В райкоме комсомола даже прочитали целую нотацию, но потом сказали, чтобы подготовила вместо себя бригадира — тогда разрешат ехать».
(Молодцы там, в райкоме! Впрочем, уж если Зойка вбила себе в голову, что должна уехать, это прочно. Что изменится для меня, если она уедет не сейчас, а осенью? Ничего.)
От Колянича
«Дорогой Володька! Во-первых, поздравляем тебя и всех твоих друзей-пограничников с праздником: Первомаем и Днем Победы. Вот уже почти год службы у тебя позади. Но долг, выполненный наполовину, — это еще не весь долг.
Дома все в порядке. Ну а чтобы много не писать, я пошел на хитрость и прилагаю письмо от твоей бригады…»
От ребят
«Здравствуй, старик!
Мы и ахнуть не успели, как ты уже отслужил почти год! Извини, что не писали: работенки, сам знаешь, хватает. В цехе у нас новое начальство и новые идеи. Но, кроме идей, существуют месячный, квартальный и годовой планы — если ты не забыл… Вот и даем план так, что дружно красуемся на Доске почета.
Сейчас горячие деньки. Варим сложные конструкции: деталька тонн на двадцать! Таких ты еще не пробовал.
Новостей за год, конечно, накопилось, но вкратце так.
Борька кончает техникум и становится нашим непосредственным начальством.
Валерку мы женили. Помнишь крановщицу Лиду из пятого цеха? У Валерки оказался отличный вкус, но что в нем увидела Лида, нам до сих пор не совсем понятно. Сенька сдал на пятый разряд и теперь маэстро. Тоже собирается обзавестись семьей, но пока ходит на танцы в наш ДК и пленяет девушек огромным, самым модным галстуком в красно-желтых пятнах. Что-то никто не пленяется. Не повесишь же на шею объявление: «У меня пятый разряд!»
Виктор в отпуске, укатил в Сочи и пишет, что уже купался. Может, врет, а может, и на самом деле выкупался в ванной с дороги.
Как твои дела? Написал бы нам…»
От Костьки
«Володя!
Почему я пишу тебе, а не вам? Потому, наверно, что перед тобой я виноват больше, чем перед другими, и еще потому, что все-таки именно мы до известного времени были более близкими товарищами. Потом мне рассказали, что это ты нашел меня на стрельбище и приволок домой. Спасибо. Впрочем, наверно, за это не положено благодарить, и ты только обидишься.
Что сказать про себя? Вот очнулся, и дело пошло на поправку. Лежу и все время вспоминаю, думаю…
Ты, наверно, спросишь, почему я молчал, не говорил, что мне плохо, и еще ругался, когда вы ко мне приставали? Честно говоря, я чувствовал, что отношение ребят, и твое тоже, ко мне здорово переменилось. И я подумал, что вы мне все равно не поверите, скажете, что я филоню и придуриваюсь. Думал, что живот поболит и перестанет. Терпел честно, но там, на стрельбище, почувствовал такую боль, что перед глазами пошли круги, и больше ничего не помню. Очнулся уже после операции и долго не мог сообразить, где я.
Вот за это прошу всех ребят простить меня.
Лене Басову и сержанту Сырцову я на днях напишу отдельно. Оказывается, это очень паршивая штука — сознание своей вины. Но, честно говоря, мне легче уже потому, что понял это.
Вообще я лежу и думаю о том, что многое делал не то, что нужно.
Доктор, который меня лечит, сказал, что я родился в рубашке и что меня вытащили за ногу с того света. Мог бы загнуться и кем бы тогда остался в вашей памяти? Поверь честному слову, я сейчас не красуюсь, а говорю все так, как есть.
Вообще очень прошу по старой дружбе писать хоть изредка. Я все время вспоминаю наш остров, и прожекторную, и всех ребят. Дорого бы дал, чтобы не валяться вот так в городе, а быть снова с вами…»
* * *
Я знал: Костька не врет. Я-то давно простил ему все. Подумаешь, великое дело! Нет, не врет. Сам дошел до всего, своим ходом. А к нам он все-таки уже не успеет вернуться…
* * *
На катере была не только почта. Опять Эрих и я возили на берег канистры, ящики и коробки — «запаску» к технике и консервы, опять не без страха виляли между камней, и опять на катере приехали офицеры: начальник заставы и с ним еще один незнакомый нам старший лейтенант. И началась трудная жизнь. Стрельбы. Строевая. Физподготовка (даже Ложков ухитрился подтянуться пять раз). Работа с прожектором. Разбор. Старший лейтенант сразу увидел, что держатель третьего электрода не стандартный, не заводской, и долго крутил его в руках.
— Сами делали?
— Так точно. Вот рядовой Соколов сделал.
— И работает.
— Три месяца.
Старший лейтенант удивленно глядел на мою работу, будто это был какой-нибудь скифский черепок; Потом он приказал провести занятие и встал в сторонке с секундомером. И опять удивленно глядел на свой секундомер. Мы умели работать, и лучше бы он удивлялся, глядя на нас. Мы меняли электроды за двадцать пять секунд. Запускали дизель за минуту. Что бы вот так же было на проверке! Но на проверке мы будем нервничать…
Под конец мы прошли мимо офицеров строем, вколачивая подошвы в мокрую мягкую землю, и Ложков не завалился на меня.
Офицеры уехали вовремя — к утру начался шторм.
Это произошло сразу. Иссиня-черная туча надвинулась так стремительно, и так быстро погас день, что казалось, в большой комнате выключили свет. Ветер ударил по макушкам деревьев, сорвал провода, идущие от «машинного» к гаражу, разбросал и потащил по земле пустые ящики.
Шторм был со снегом, и снег резал лицо. Опять по земле легли белые вытянутые полосы, будто кто-то разорвал простыни и бросил клочья. Обрывки проводов бились о деревья и землю. Потом с грохотом повалилась сосна и легла рядом с домом.
Море пошло на нас. Перед камнями вырастала белая стена, волны колотились об эти камни со взрывами, и казалось, дом дрожит не от ветра, а от этих глухих, откуда-то из-под земли доносящихся взрывов.
Мне было и жутковато, и весело одновременно, Не улетела бы снова крыша! И выстояла бы вышка. Сырцов снял с нее часового, и я подумал — правильно. Ложков был зелено-фиолетового цвета. Он стоял на вышке, когда ударил этот шторм. Перепугался парень до невозможности: и уйти без приказа нельзя, и оставаться страшно. Вышку мотало. «Как будто в землетрясение попал», — рассказывал нам Ложков, помаленьку приходя в себя.
Шторм продолжался весь день, ночь и начал стихать к следующему утру. Мы чувствовали себя так, как, должно быть, чувствуют себя хозяева, вернувшиеся домой и увидевшие, что здесь побывали взломщики. Поваленные деревья выставили свои лапы-корни. В бане были выдавлены стекла и сорваны двери. Хорошо, мы с Эрихом вытащили лодку на берег, и она не пострадала… Сырцов сказал, что на этот раз мы легко отделались.
Была моя очередь идти на вышку, и я поднимался не без робости. Здесь ветер гудел, выл, свистел на все лады, и вышка походила на яблоню, с которой отряхивают яблоки. Вполне понятно, что Ложков здесь позеленел. Меня тоже начало мутить от тряски. На такой вышке не дежурить надо, а проверять вестибулярный аппарат у космонавтов.
Казалось, я стоял на вершине большой горы, а внизу громоздились горы поменьше. Они двигались, сшибались, догоняли друг друга и накрывали одна другую. В это кипение воды вдруг врывалась ослепительная полоса света — ветер разрывал тучи, и тогда стремительно падал сноп солнечного света.
И тогда, когда такой сноп упал, я и увидел лодку. Поначалу не поверил себе — откуда здесь Могла появиться лодка? Схватился за ручки МБТ, развернул трубу — и лодка оказалась перед глазами. Ее несло прямо к нам; она то поднималась, то проваливалась и снова выскакивала на гребень волны. В лодке было двое… Я метнулся в будку.
Кнопка — сигнал боевой тревоги. Ракетница на полочке. Две красные и одна зеленая. Ветер снес ракеты в сторону, но все равно на заставе уже заметили сигнал. Ребята выскакивали из дома, на ходу вставляя рожки в автоматы. Они не слышали, что я им кричал. Пришлось мне прогрохотать вниз, едва касаясь ступенек. Впрочем, теперь даже отсюда, снизу, была видна эта лодка.
— Разобьются, — вдруг сказал Эрих. — Это рыбаки. Спасать надо.
Я мельком подумал: почему он решил, что это рыбаки? А через секунду уже бежал за ним, к нашей лодке. Мы перевернули ее и столкнули на воду. Здесь, за камнями, было тихо. Вернее, почти тихо. Волны разбивались о камни там, дальше.
— Осторожней! — крикнул Сырцов. — В море не выходить!
Не так-то просто было выгребать против ветра. Лодка развернулась боком, и ее сразу же прижало к берегу. Эрих спрыгнул в воду и навалился на борт всем телом. Надо было идти против ветра — и мы все-таки повернули наш ялик. Эрих перевалился в лодку, и я увидел, что брюки у него мокрые выше колен: стало быть, нахватал воды в сапоги.
Мы гребли вместе, сидя друг против друга. Эрих положил свои руки поверх моих и толкал весла, а я тянул их — только так и можно было выгрести.
Мы не видели ту лодку. Сырцов показывал с берега рукой — правее, правее, — а как идти правее? Стоило только повернуть, как нас снова начало нести на берег. Лодка парусила. А Сырцов все махал нам — правее, еще правее, еще!
Наконец нам удалось зайти за камни. Здесь было тихо, и вода только крутилась. Ладони у меня горели. Я взглянул на берег, на ребят, и увидел, что они замерли, подавшись вперед.
— Скорей, — сказал Эрих. Он тоже увидел это и догадался раньше меня, что нужно скорее.
Все-таки мы не успели. Та лодка ударилась о камни прежде, чем мы подоспели. Я даже не слышал никакого треска. Нос той лодки задрался и, скользнув по полированному боку валуна, исчез под водой. Все это происходило слишком быстро, чтобы я мог сообразить, что делать дальше.
А дальше Эрих бросился в воду. Встал и полетел за борт. Глубина здесь была небольшой, ему по грудь; он пошел по дну, вскинув руки, а я лихорадочно греб за ним, потому что сразу полегчавшую лодку относило сильней и сильней. Я не видел Эриха — ведь я греб, сидя спиной, и оборачивался на секунду, чтобы самому не врезаться в какой-нибудь камень.
Потом возле лодки оказалось сразу три головы — и шесть рук одновременно вцепились в борт ялика. С ума они сошли, что ли? Перевернут же… Я убрал весла — и сразу лодку понесло к берегу. Там было совсем мелко. Ветер тащил наш ялик, а ялик тащил Эриха и тех двоих.
И опять все происходило слишком быстро. Резкий удар о берег. Ребята с автоматами возле лодки. Эрих, встающий первым и помогающий подняться тем двоим. Все. Я полез в карман за сигаретами. Больше всего на свете мне хотелось закурить. Вытащить лодку успеем. Главное — закурить и маленько прийти в себя. Ведь я даже не сообразил, почему в лодке вместе с Эрихом оказался именно я, а не кто-нибудь из ребят. Должно быть, сработал рефлекс. Раз мы с ним ездим обычно к катеру — значит, и на этот раз в голове сработала какая-то шестеренка или пружинка. Но ничего, все в порядке. И, только закурив, я поглядел на тех, вытащенных Эрихом.
Одному было лет шестьдесят, наверно. А другой совсем пацан. Старик еще держался, а пацан как повис на Эрихе, так и не отпускал его. Их повели в дом, совсем забыв обо мне. Пришлось крикнуть:
— Эй, а кто будет вытаскивать лодку, черти зеленые?!
Все-таки были нарушители границы, не «спасенные», а «задержанные», и, как полагалось, Сырцов произвел обыск, только потом их переодели и начали отпаивать чаем. Ленька побежал топить баню. Сашка сворачивал рацию. Оказывается, все это время он был на связи с заставой, комендатурой и отрядом. Кажется, сработали мы совсем неплохо. Только нарушители попались несерьезные: конечно, рыбаки, а вовсе не какие-нибудь шпионы. Мальчишка лет тринадцати или четырнадцати.
Сидит и дрожит, кутаясь в два одеяла. Старик вроде бы ничего, даже улыбается нам и что-то говорит по-фински. А может, и не по-фински, бес его знает.
Вещи, найденные при обыске, лежат в нашей спальне: два ножа, мокрая пачка с расползающимися сигаретами, зажигалка, коробка с крючками, компас, часы, какая-то бумажка, которую Сырцов не рискнул развернуть. Пусть лежит и сохнет до прибытия начальства. С заставы передали — ждите вертолет, когда стихнет ветер. Не хотят рисковать. Значит, пока эти двое будут у нас.
Эрих переоделся, и ему тоже в первую очередь был налит чай. Он сидел рядом с задержанными, грел о кружку красные руки и молчал. Старик что-то сказал пацану, тот ответил — Эрих далее бровью не повел. Но я-то уже догадался, что он молчит нарочно. Я слышал, что эстонцы запросто понимают финнов. И сейчас Эрих просто хочет послушать, о чем они говорят.
Вдруг старик сказал, показывая на себя:
— Матти. Матти Корппи, — потом ткнул пальцем в пацана. — Вяйне. — И заговорил, заговорил, а мы покачивали головами: нет, никто не понимал ни слова. Тогда старик начал показывать, как на крючок надевают наживку и вытаскивают добычу. Изображал рыбака. Я смотрел на его руки с короткими, растрескавшимися, неуклюжими пальцами. У него были сильные руки, у этого Матти Корппи, не то что у пацана.
Старик оказался совсем неплохим артистом. Мы понимали каждый его жест. Он показывал, как вышел с этим пацаном, Вяйне, в море, как начали ловить рыбу, как налетел шторм и их понесло, и как отказал мотор, а потом вырвало весло… Все, все было понятно без всяких слов. Что ж, им повезло. Черт с ней, с лодкой, благо сами живы остались. Через несколько дней их передадут финскому пограничному комиссару, и то-то будет рассказов у Вяйне, как он побывал в России, в Советском Союзе.
Эрих повел задержанных в баню. Они парились там часа два, не меньше. Надо было где-то устроить их на ночлег. Сырцов решил: там же, в бане. Окна мы заколотили фанерой и убрали осколки стекол, выбитых ветром. Правда, придется ставить у дверей часового. Ничего не поделаешь. Так положено.
Но после бани они вернулись в дом, и Эрих тихо сказал:
— Рыбаки. Дед и внук. Парень лодку жалеет. Недавно купили мотор. Хотели лосося поймать.
— Ясно, — сказал Сырцов. — Пожалуй, можешь поговорить.
Эрих что-то сказал Корппи, и старик вытаращил на него бесцветные, слинявшие, слезящие глаза. Я-то думал — финны молчуны, а этот трещал как пулемёт. Эрих переводил, запинаясь.
— Говорят, они небогатые люди. Вообще, не совсем рыбаки. Еще это… гонят смолу. — Видимо, Он понимал не все, что говорил Матти. — А, ясно. Его жена рожала восемь раз — восемь детей. Уже столько же внуков. Два сына работают в Турку. На верфях «Крейтон-Вулкан»… У него есть письмо от сына, которое мы отобрали. Оба рабочие.
— Коммунисты? — спросил Ленька. Старик понял это без перевода и покачал головой. Нет.
Эрих часто переспрашивал старика, но все-таки переводил. Оказывается, этот пацан — его внук. Вяйне живет с дедом потому, что в городе очень дорого. В городе все дороже. Хлеб дороже, масло, мясо. У Вяйне неважное здоровье, но в городе врачу надо платить больше, чем в деревне. У них на три общины один врач, и ему можно платить рыбой, утками, яйцами.
— Во дает! — сказал Ложков. — Значит, пощупает тебя доктор — гони утку?
— Первый раз слышишь, что ли? — не поворачиваясь, сказал Сырцов. — У них же капитализм все-таки. — И попросил Эриха: — Ты переведи, зачем они далеко в море уходили, если у них такая лодчонка хилая?
Эрих перевел.
— Он говорит, у берега ставить нельзя. Там каждый остров — частный. Личная собственность.
— Значит, простому человеку и порыбачить негде? — все удивлялся Ложков.
Эрих уже устал. И баня его разморила, должно быть. Но все-таки переводил.
— Ты погоди, — не унимался Ложков. — Что ж, значит, выходит? Заболел — плати. Хочешь учиться — плати. Хочешь жить в квартире отдай четверть зарплаты и не греши! А сам вот — мотор купил. Ты спроси, у него какое хозяйство? Ну, кулак ей там или середняк?
Эрих не стал спрашивать.
— Ты на его руки погляди, — ответил он. Старик курил наш «Памир» и кашлял — сигареты
были крепкими для него, а может, простыл за те полтора дня, что их несло. Вяйне начал подремывать. Пришлось потрясти его за плечо. Идем, идем спать. Уже в дверях старик Матти обернулся, просительно поглядел на нас и пощелкал пальцем по дряблой, заросшей седой щетиной шее.
— Спрашивает, нет ли выпить, — сказал я. Сырцов покачал головой, и старик тяжело вздохнул. Конечно, обидно: попасть к русским и не попробовать русской водки.
Но мне ведь надо на вышку. Головня только подменил меня там, а я и забыл об этом. Мне стоять еще полтора часа. Ветер не стихает, и вышка гудит по-прежнему.
— Ну как там? — спрашивает Сашка.
— Спать пошли.
— Я не об этом. Рассказывали они чего-нибудь?
— Рассказывали.
Я гляжу на море, на эти мечущиеся волны, покрытые ослепительно-белой пеной, и мне как-то страшно, что там, за ними, люди живут совсем не так, как мы. Одно дело читать об этом в газетах и совсем другое — своими глазами увидеть мальчишку, который не может жить у родителей в городе потому, что там дороже платить врачу.
* * *
Вертолет появился через два дня.
Гигантская стрекоза опустилась рядом с домом, на поляне, утрамбованной нашими ногами — здесь мы занимались строевой. Лопасти покрутились, повисли — тогда раскрылась дверца и показался комендант участка, подполковник Лобода. Сам прилетел!
Вместе с ним были два солдата и длинный, обвешанный фотоаппаратами, прапорщик. Я подумал: «Какой-нибудь технический эксперт». Прапорщик оказался корреспондентом нашей окружной газеты «Пограничник» и сразу взял Эриха и меня в оборот. Сначала он вытащил блокнот и сказал:
— Коротко, без лирики. Самую суть.
Рассказывать пришлось мне. Прапорщик записывал, повторяя: «Спокойней, видишь — не успеваю»… Потом подозвал Сашку Головню и расставил нас на камнях. Мы стояли, сжимая автоматы и вглядываясь в даль. Прапорщик снимал нас сверху, снизу, сбоку, а я еле сдерживался, чтоб не засмеяться. «Нужны дубли», — вспомнилось мне. Итак, третий раз я попадаю в газету.
— Читайте о себе в День пограничника, — сказал длинный прапорщик. — Желаю успеха.
Финнов пригласили в вертолет, и вдруг Вяйне заревел, прижавшись к деду. Шел и ревел, как белуга, со страха. Уже подойдя к вертолету, Матти обернулся и, отыскав глазами меня и Эриха, сказал по-русски:
— Спасибо, спасибо…
— Не за что, — сказал я. — Не заплывайте далеко.
Вот тогда-то к нам и подошел комендант. Протянул руку Эриху, Сашке, мне. И вспомнил все-таки:
— Товарищ Соколов, кажется?
— Так точно, товарищ подполковник.
— Значит, все полезно, что в рот полезло? И от сна еще никто не умирал?
Я засмеялся. Просто мне стало очень смешно. Подполковник тоже засмеялся. Но тут же я увидел за его спиной Сырцова. Сержант был мрачен.
— Разрешите обратиться, товарищ подполковник? — сказал я.
— Да.
— У нас тут ЧП было. С прожектором.
— Знаю.
— Сержант Сырцов взял вину на себя. Виноват же я был один.
— Догадывался. У вас все?
— Все, — растерялся я.
— Ну, если все, тогда нам пора.
Мы схватились за фуражки и пригнулись от ветра, поднятого лопастями. Как во время шторма. Вертолет медленно оторвался от лужайки и начал отлетать боком. Я никогда не летал в вертолете. Наверно, страшновато. И Вяйне испугался. А все-таки они молодцы, эти Корппи. Недаром ели наш хлеб. Собрали все сети и перелатали их так, что сети стали как новенькие…
— Ты чего мрачный? — спросил я Сырцова. — Неприятности?
— Выговор, — сказал Сырцов, глядя в сторону. — А вам троим отпуск по десять дней.
— Мне-то за что? — удивился Сашка.
— За бесперебойную радиосвязь, — объяснил Сырцов. — Подполковник сказал, что ты как Озеров репортаж вел. Короче, сговоритесь, кто пойдет по очереди, и двигайте после проверки.
Десять дней! Проверка будет вот-вот… И десять дней я буду дома! Я поглядел на Эриха, на Сашку и спросил:
— Качнем?
— Качнем, — кивнул Эрих. Сырцов попятился. Но было уже поздно. Мы схватили его и начали качать, а он прижимал к себе фуражку и кричал: «Отставить! Отставить, я говорю!» Пусть кричит. Оказывается, не всегда нужно выполнять приказ командира.
От Зои (десятое)
«Дорогие мальчики! Опять от вас долго ничего нет, но я уже не очень волнуюсь. Знаю, как вам служится, и потому не только не волнуюсь, но и не сержусь.
Я еще в Ленинграде. Никак не отпускают меня на КамАЗ! Хожу, спорю, даже ругаюсь. По закону я имею право уйти с работы, но меня уговаривают остаться хотя бы до осени. Не знаю, удастся ли уехать раньше. В райкоме комсомола даже прочитали целую нотацию, но потом сказали, чтобы подготовила вместо себя бригадира — тогда разрешат ехать».
(Молодцы там, в райкоме! Впрочем, уж если Зойка вбила себе в голову, что должна уехать, это прочно. Что изменится для меня, если она уедет не сейчас, а осенью? Ничего.)
От Колянича
«Дорогой Володька! Во-первых, поздравляем тебя и всех твоих друзей-пограничников с праздником: Первомаем и Днем Победы. Вот уже почти год службы у тебя позади. Но долг, выполненный наполовину, — это еще не весь долг.
Дома все в порядке. Ну а чтобы много не писать, я пошел на хитрость и прилагаю письмо от твоей бригады…»
От ребят
«Здравствуй, старик!
Мы и ахнуть не успели, как ты уже отслужил почти год! Извини, что не писали: работенки, сам знаешь, хватает. В цехе у нас новое начальство и новые идеи. Но, кроме идей, существуют месячный, квартальный и годовой планы — если ты не забыл… Вот и даем план так, что дружно красуемся на Доске почета.
Сейчас горячие деньки. Варим сложные конструкции: деталька тонн на двадцать! Таких ты еще не пробовал.
Новостей за год, конечно, накопилось, но вкратце так.
Борька кончает техникум и становится нашим непосредственным начальством.
Валерку мы женили. Помнишь крановщицу Лиду из пятого цеха? У Валерки оказался отличный вкус, но что в нем увидела Лида, нам до сих пор не совсем понятно. Сенька сдал на пятый разряд и теперь маэстро. Тоже собирается обзавестись семьей, но пока ходит на танцы в наш ДК и пленяет девушек огромным, самым модным галстуком в красно-желтых пятнах. Что-то никто не пленяется. Не повесишь же на шею объявление: «У меня пятый разряд!»
Виктор в отпуске, укатил в Сочи и пишет, что уже купался. Может, врет, а может, и на самом деле выкупался в ванной с дороги.
Как твои дела? Написал бы нам…»
От Костьки
«Володя!
Почему я пишу тебе, а не вам? Потому, наверно, что перед тобой я виноват больше, чем перед другими, и еще потому, что все-таки именно мы до известного времени были более близкими товарищами. Потом мне рассказали, что это ты нашел меня на стрельбище и приволок домой. Спасибо. Впрочем, наверно, за это не положено благодарить, и ты только обидишься.
Что сказать про себя? Вот очнулся, и дело пошло на поправку. Лежу и все время вспоминаю, думаю…
Ты, наверно, спросишь, почему я молчал, не говорил, что мне плохо, и еще ругался, когда вы ко мне приставали? Честно говоря, я чувствовал, что отношение ребят, и твое тоже, ко мне здорово переменилось. И я подумал, что вы мне все равно не поверите, скажете, что я филоню и придуриваюсь. Думал, что живот поболит и перестанет. Терпел честно, но там, на стрельбище, почувствовал такую боль, что перед глазами пошли круги, и больше ничего не помню. Очнулся уже после операции и долго не мог сообразить, где я.
Вот за это прошу всех ребят простить меня.
Лене Басову и сержанту Сырцову я на днях напишу отдельно. Оказывается, это очень паршивая штука — сознание своей вины. Но, честно говоря, мне легче уже потому, что понял это.
Вообще я лежу и думаю о том, что многое делал не то, что нужно.
Доктор, который меня лечит, сказал, что я родился в рубашке и что меня вытащили за ногу с того света. Мог бы загнуться и кем бы тогда остался в вашей памяти? Поверь честному слову, я сейчас не красуюсь, а говорю все так, как есть.
Вообще очень прошу по старой дружбе писать хоть изредка. Я все время вспоминаю наш остров, и прожекторную, и всех ребят. Дорого бы дал, чтобы не валяться вот так в городе, а быть снова с вами…»
* * *
Я знал: Костька не врет. Я-то давно простил ему все. Подумаешь, великое дело! Нет, не врет. Сам дошел до всего, своим ходом. А к нам он все-таки уже не успеет вернуться…
* * *
На катере была не только почта. Опять Эрих и я возили на берег канистры, ящики и коробки — «запаску» к технике и консервы, опять не без страха виляли между камней, и опять на катере приехали офицеры: начальник заставы и с ним еще один незнакомый нам старший лейтенант. И началась трудная жизнь. Стрельбы. Строевая. Физподготовка (даже Ложков ухитрился подтянуться пять раз). Работа с прожектором. Разбор. Старший лейтенант сразу увидел, что держатель третьего электрода не стандартный, не заводской, и долго крутил его в руках.
— Сами делали?
— Так точно. Вот рядовой Соколов сделал.
— И работает.
— Три месяца.
Старший лейтенант удивленно глядел на мою работу, будто это был какой-нибудь скифский черепок; Потом он приказал провести занятие и встал в сторонке с секундомером. И опять удивленно глядел на свой секундомер. Мы умели работать, и лучше бы он удивлялся, глядя на нас. Мы меняли электроды за двадцать пять секунд. Запускали дизель за минуту. Что бы вот так же было на проверке! Но на проверке мы будем нервничать…
Под конец мы прошли мимо офицеров строем, вколачивая подошвы в мокрую мягкую землю, и Ложков не завалился на меня.
Офицеры уехали вовремя — к утру начался шторм.
Это произошло сразу. Иссиня-черная туча надвинулась так стремительно, и так быстро погас день, что казалось, в большой комнате выключили свет. Ветер ударил по макушкам деревьев, сорвал провода, идущие от «машинного» к гаражу, разбросал и потащил по земле пустые ящики.
Шторм был со снегом, и снег резал лицо. Опять по земле легли белые вытянутые полосы, будто кто-то разорвал простыни и бросил клочья. Обрывки проводов бились о деревья и землю. Потом с грохотом повалилась сосна и легла рядом с домом.
Море пошло на нас. Перед камнями вырастала белая стена, волны колотились об эти камни со взрывами, и казалось, дом дрожит не от ветра, а от этих глухих, откуда-то из-под земли доносящихся взрывов.
Мне было и жутковато, и весело одновременно, Не улетела бы снова крыша! И выстояла бы вышка. Сырцов снял с нее часового, и я подумал — правильно. Ложков был зелено-фиолетового цвета. Он стоял на вышке, когда ударил этот шторм. Перепугался парень до невозможности: и уйти без приказа нельзя, и оставаться страшно. Вышку мотало. «Как будто в землетрясение попал», — рассказывал нам Ложков, помаленьку приходя в себя.
Шторм продолжался весь день, ночь и начал стихать к следующему утру. Мы чувствовали себя так, как, должно быть, чувствуют себя хозяева, вернувшиеся домой и увидевшие, что здесь побывали взломщики. Поваленные деревья выставили свои лапы-корни. В бане были выдавлены стекла и сорваны двери. Хорошо, мы с Эрихом вытащили лодку на берег, и она не пострадала… Сырцов сказал, что на этот раз мы легко отделались.
Была моя очередь идти на вышку, и я поднимался не без робости. Здесь ветер гудел, выл, свистел на все лады, и вышка походила на яблоню, с которой отряхивают яблоки. Вполне понятно, что Ложков здесь позеленел. Меня тоже начало мутить от тряски. На такой вышке не дежурить надо, а проверять вестибулярный аппарат у космонавтов.
Казалось, я стоял на вершине большой горы, а внизу громоздились горы поменьше. Они двигались, сшибались, догоняли друг друга и накрывали одна другую. В это кипение воды вдруг врывалась ослепительная полоса света — ветер разрывал тучи, и тогда стремительно падал сноп солнечного света.
И тогда, когда такой сноп упал, я и увидел лодку. Поначалу не поверил себе — откуда здесь Могла появиться лодка? Схватился за ручки МБТ, развернул трубу — и лодка оказалась перед глазами. Ее несло прямо к нам; она то поднималась, то проваливалась и снова выскакивала на гребень волны. В лодке было двое… Я метнулся в будку.
Кнопка — сигнал боевой тревоги. Ракетница на полочке. Две красные и одна зеленая. Ветер снес ракеты в сторону, но все равно на заставе уже заметили сигнал. Ребята выскакивали из дома, на ходу вставляя рожки в автоматы. Они не слышали, что я им кричал. Пришлось мне прогрохотать вниз, едва касаясь ступенек. Впрочем, теперь даже отсюда, снизу, была видна эта лодка.
— Разобьются, — вдруг сказал Эрих. — Это рыбаки. Спасать надо.
Я мельком подумал: почему он решил, что это рыбаки? А через секунду уже бежал за ним, к нашей лодке. Мы перевернули ее и столкнули на воду. Здесь, за камнями, было тихо. Вернее, почти тихо. Волны разбивались о камни там, дальше.
— Осторожней! — крикнул Сырцов. — В море не выходить!
Не так-то просто было выгребать против ветра. Лодка развернулась боком, и ее сразу же прижало к берегу. Эрих спрыгнул в воду и навалился на борт всем телом. Надо было идти против ветра — и мы все-таки повернули наш ялик. Эрих перевалился в лодку, и я увидел, что брюки у него мокрые выше колен: стало быть, нахватал воды в сапоги.
Мы гребли вместе, сидя друг против друга. Эрих положил свои руки поверх моих и толкал весла, а я тянул их — только так и можно было выгрести.
Мы не видели ту лодку. Сырцов показывал с берега рукой — правее, правее, — а как идти правее? Стоило только повернуть, как нас снова начало нести на берег. Лодка парусила. А Сырцов все махал нам — правее, еще правее, еще!
Наконец нам удалось зайти за камни. Здесь было тихо, и вода только крутилась. Ладони у меня горели. Я взглянул на берег, на ребят, и увидел, что они замерли, подавшись вперед.
— Скорей, — сказал Эрих. Он тоже увидел это и догадался раньше меня, что нужно скорее.
Все-таки мы не успели. Та лодка ударилась о камни прежде, чем мы подоспели. Я даже не слышал никакого треска. Нос той лодки задрался и, скользнув по полированному боку валуна, исчез под водой. Все это происходило слишком быстро, чтобы я мог сообразить, что делать дальше.
А дальше Эрих бросился в воду. Встал и полетел за борт. Глубина здесь была небольшой, ему по грудь; он пошел по дну, вскинув руки, а я лихорадочно греб за ним, потому что сразу полегчавшую лодку относило сильней и сильней. Я не видел Эриха — ведь я греб, сидя спиной, и оборачивался на секунду, чтобы самому не врезаться в какой-нибудь камень.
Потом возле лодки оказалось сразу три головы — и шесть рук одновременно вцепились в борт ялика. С ума они сошли, что ли? Перевернут же… Я убрал весла — и сразу лодку понесло к берегу. Там было совсем мелко. Ветер тащил наш ялик, а ялик тащил Эриха и тех двоих.
И опять все происходило слишком быстро. Резкий удар о берег. Ребята с автоматами возле лодки. Эрих, встающий первым и помогающий подняться тем двоим. Все. Я полез в карман за сигаретами. Больше всего на свете мне хотелось закурить. Вытащить лодку успеем. Главное — закурить и маленько прийти в себя. Ведь я даже не сообразил, почему в лодке вместе с Эрихом оказался именно я, а не кто-нибудь из ребят. Должно быть, сработал рефлекс. Раз мы с ним ездим обычно к катеру — значит, и на этот раз в голове сработала какая-то шестеренка или пружинка. Но ничего, все в порядке. И, только закурив, я поглядел на тех, вытащенных Эрихом.
Одному было лет шестьдесят, наверно. А другой совсем пацан. Старик еще держался, а пацан как повис на Эрихе, так и не отпускал его. Их повели в дом, совсем забыв обо мне. Пришлось крикнуть:
— Эй, а кто будет вытаскивать лодку, черти зеленые?!
Все-таки были нарушители границы, не «спасенные», а «задержанные», и, как полагалось, Сырцов произвел обыск, только потом их переодели и начали отпаивать чаем. Ленька побежал топить баню. Сашка сворачивал рацию. Оказывается, все это время он был на связи с заставой, комендатурой и отрядом. Кажется, сработали мы совсем неплохо. Только нарушители попались несерьезные: конечно, рыбаки, а вовсе не какие-нибудь шпионы. Мальчишка лет тринадцати или четырнадцати.
Сидит и дрожит, кутаясь в два одеяла. Старик вроде бы ничего, даже улыбается нам и что-то говорит по-фински. А может, и не по-фински, бес его знает.
Вещи, найденные при обыске, лежат в нашей спальне: два ножа, мокрая пачка с расползающимися сигаретами, зажигалка, коробка с крючками, компас, часы, какая-то бумажка, которую Сырцов не рискнул развернуть. Пусть лежит и сохнет до прибытия начальства. С заставы передали — ждите вертолет, когда стихнет ветер. Не хотят рисковать. Значит, пока эти двое будут у нас.
Эрих переоделся, и ему тоже в первую очередь был налит чай. Он сидел рядом с задержанными, грел о кружку красные руки и молчал. Старик что-то сказал пацану, тот ответил — Эрих далее бровью не повел. Но я-то уже догадался, что он молчит нарочно. Я слышал, что эстонцы запросто понимают финнов. И сейчас Эрих просто хочет послушать, о чем они говорят.
Вдруг старик сказал, показывая на себя:
— Матти. Матти Корппи, — потом ткнул пальцем в пацана. — Вяйне. — И заговорил, заговорил, а мы покачивали головами: нет, никто не понимал ни слова. Тогда старик начал показывать, как на крючок надевают наживку и вытаскивают добычу. Изображал рыбака. Я смотрел на его руки с короткими, растрескавшимися, неуклюжими пальцами. У него были сильные руки, у этого Матти Корппи, не то что у пацана.
Старик оказался совсем неплохим артистом. Мы понимали каждый его жест. Он показывал, как вышел с этим пацаном, Вяйне, в море, как начали ловить рыбу, как налетел шторм и их понесло, и как отказал мотор, а потом вырвало весло… Все, все было понятно без всяких слов. Что ж, им повезло. Черт с ней, с лодкой, благо сами живы остались. Через несколько дней их передадут финскому пограничному комиссару, и то-то будет рассказов у Вяйне, как он побывал в России, в Советском Союзе.
Эрих повел задержанных в баню. Они парились там часа два, не меньше. Надо было где-то устроить их на ночлег. Сырцов решил: там же, в бане. Окна мы заколотили фанерой и убрали осколки стекол, выбитых ветром. Правда, придется ставить у дверей часового. Ничего не поделаешь. Так положено.
Но после бани они вернулись в дом, и Эрих тихо сказал:
— Рыбаки. Дед и внук. Парень лодку жалеет. Недавно купили мотор. Хотели лосося поймать.
— Ясно, — сказал Сырцов. — Пожалуй, можешь поговорить.
Эрих что-то сказал Корппи, и старик вытаращил на него бесцветные, слинявшие, слезящие глаза. Я-то думал — финны молчуны, а этот трещал как пулемёт. Эрих переводил, запинаясь.
— Говорят, они небогатые люди. Вообще, не совсем рыбаки. Еще это… гонят смолу. — Видимо, Он понимал не все, что говорил Матти. — А, ясно. Его жена рожала восемь раз — восемь детей. Уже столько же внуков. Два сына работают в Турку. На верфях «Крейтон-Вулкан»… У него есть письмо от сына, которое мы отобрали. Оба рабочие.
— Коммунисты? — спросил Ленька. Старик понял это без перевода и покачал головой. Нет.
Эрих часто переспрашивал старика, но все-таки переводил. Оказывается, этот пацан — его внук. Вяйне живет с дедом потому, что в городе очень дорого. В городе все дороже. Хлеб дороже, масло, мясо. У Вяйне неважное здоровье, но в городе врачу надо платить больше, чем в деревне. У них на три общины один врач, и ему можно платить рыбой, утками, яйцами.
— Во дает! — сказал Ложков. — Значит, пощупает тебя доктор — гони утку?
— Первый раз слышишь, что ли? — не поворачиваясь, сказал Сырцов. — У них же капитализм все-таки. — И попросил Эриха: — Ты переведи, зачем они далеко в море уходили, если у них такая лодчонка хилая?
Эрих перевел.
— Он говорит, у берега ставить нельзя. Там каждый остров — частный. Личная собственность.
— Значит, простому человеку и порыбачить негде? — все удивлялся Ложков.
Эрих уже устал. И баня его разморила, должно быть. Но все-таки переводил.
— Ты погоди, — не унимался Ложков. — Что ж, значит, выходит? Заболел — плати. Хочешь учиться — плати. Хочешь жить в квартире отдай четверть зарплаты и не греши! А сам вот — мотор купил. Ты спроси, у него какое хозяйство? Ну, кулак ей там или середняк?
Эрих не стал спрашивать.
— Ты на его руки погляди, — ответил он. Старик курил наш «Памир» и кашлял — сигареты
были крепкими для него, а может, простыл за те полтора дня, что их несло. Вяйне начал подремывать. Пришлось потрясти его за плечо. Идем, идем спать. Уже в дверях старик Матти обернулся, просительно поглядел на нас и пощелкал пальцем по дряблой, заросшей седой щетиной шее.
— Спрашивает, нет ли выпить, — сказал я. Сырцов покачал головой, и старик тяжело вздохнул. Конечно, обидно: попасть к русским и не попробовать русской водки.
Но мне ведь надо на вышку. Головня только подменил меня там, а я и забыл об этом. Мне стоять еще полтора часа. Ветер не стихает, и вышка гудит по-прежнему.
— Ну как там? — спрашивает Сашка.
— Спать пошли.
— Я не об этом. Рассказывали они чего-нибудь?
— Рассказывали.
Я гляжу на море, на эти мечущиеся волны, покрытые ослепительно-белой пеной, и мне как-то страшно, что там, за ними, люди живут совсем не так, как мы. Одно дело читать об этом в газетах и совсем другое — своими глазами увидеть мальчишку, который не может жить у родителей в городе потому, что там дороже платить врачу.
* * *
Вертолет появился через два дня.
Гигантская стрекоза опустилась рядом с домом, на поляне, утрамбованной нашими ногами — здесь мы занимались строевой. Лопасти покрутились, повисли — тогда раскрылась дверца и показался комендант участка, подполковник Лобода. Сам прилетел!
Вместе с ним были два солдата и длинный, обвешанный фотоаппаратами, прапорщик. Я подумал: «Какой-нибудь технический эксперт». Прапорщик оказался корреспондентом нашей окружной газеты «Пограничник» и сразу взял Эриха и меня в оборот. Сначала он вытащил блокнот и сказал:
— Коротко, без лирики. Самую суть.
Рассказывать пришлось мне. Прапорщик записывал, повторяя: «Спокойней, видишь — не успеваю»… Потом подозвал Сашку Головню и расставил нас на камнях. Мы стояли, сжимая автоматы и вглядываясь в даль. Прапорщик снимал нас сверху, снизу, сбоку, а я еле сдерживался, чтоб не засмеяться. «Нужны дубли», — вспомнилось мне. Итак, третий раз я попадаю в газету.
— Читайте о себе в День пограничника, — сказал длинный прапорщик. — Желаю успеха.
Финнов пригласили в вертолет, и вдруг Вяйне заревел, прижавшись к деду. Шел и ревел, как белуга, со страха. Уже подойдя к вертолету, Матти обернулся и, отыскав глазами меня и Эриха, сказал по-русски:
— Спасибо, спасибо…
— Не за что, — сказал я. — Не заплывайте далеко.
Вот тогда-то к нам и подошел комендант. Протянул руку Эриху, Сашке, мне. И вспомнил все-таки:
— Товарищ Соколов, кажется?
— Так точно, товарищ подполковник.
— Значит, все полезно, что в рот полезло? И от сна еще никто не умирал?
Я засмеялся. Просто мне стало очень смешно. Подполковник тоже засмеялся. Но тут же я увидел за его спиной Сырцова. Сержант был мрачен.
— Разрешите обратиться, товарищ подполковник? — сказал я.
— Да.
— У нас тут ЧП было. С прожектором.
— Знаю.
— Сержант Сырцов взял вину на себя. Виноват же я был один.
— Догадывался. У вас все?
— Все, — растерялся я.
— Ну, если все, тогда нам пора.
Мы схватились за фуражки и пригнулись от ветра, поднятого лопастями. Как во время шторма. Вертолет медленно оторвался от лужайки и начал отлетать боком. Я никогда не летал в вертолете. Наверно, страшновато. И Вяйне испугался. А все-таки они молодцы, эти Корппи. Недаром ели наш хлеб. Собрали все сети и перелатали их так, что сети стали как новенькие…
— Ты чего мрачный? — спросил я Сырцова. — Неприятности?
— Выговор, — сказал Сырцов, глядя в сторону. — А вам троим отпуск по десять дней.
— Мне-то за что? — удивился Сашка.
— За бесперебойную радиосвязь, — объяснил Сырцов. — Подполковник сказал, что ты как Озеров репортаж вел. Короче, сговоритесь, кто пойдет по очереди, и двигайте после проверки.
Десять дней! Проверка будет вот-вот… И десять дней я буду дома! Я поглядел на Эриха, на Сашку и спросил:
— Качнем?
— Качнем, — кивнул Эрих. Сырцов попятился. Но было уже поздно. Мы схватили его и начали качать, а он прижимал к себе фуражку и кричал: «Отставить! Отставить, я говорю!» Пусть кричит. Оказывается, не всегда нужно выполнять приказ командира.