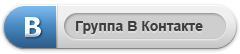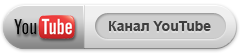Гая привезла на такси женщина лет тридцати. Охранявший заставу часовой в первую минуту удивленно, не зная, что делать, рассматривал сквозь проволочный узор калитки огромную палевую овчарку, которую хозяйка держала на поводке. Пес то и дело перебирал лапами, но выглядел вполне миролюбиво. И все равно часовой предусмотрительно держался от калитки подальше: зверь есть зверь, никто не знает, что у него на уме.
— Мне бы увидеть вашего командира, — попросила женщина часового.
Солдат нажал кнопку вызова дежурного по заставе, и когда тот вскоре прибежал, кивком указал ему на владелицу восточноевропейской овчарки:
— Начальника спрашивает. Зачем — не говорит. Просит лично его.
Боев вышел к незнакомой женщине минут через пятнадцать, извинился за непредвиденную задержку: освободиться раньше не позволяла служба.
— Ничего-ничего, — сдерживая дрожь в голосе, певуче ответила женщина. — Я понимаю.
Собака потянулась к Боеву крупной мордой цвета обожженной головни, сунулась мокрым носом в ладонь
— Фу, сидеть, — скомандовала хозяйка, и пес мгновенно сел. На груди звякнули медали.
— Как зовут собаку? — спросил Боев, не дожидаясь, когда женщина соберется с духом объяснить, что привело ее на заставу, да еще с овчаркой.
— Гай. Три года. Прекрасная родословная. Родители — аргентинцы. Медалист. Чемпион. — Женщина давала характеристику сухим, отрывистым голосом, не глядя на офицера, но за обилием перечислений Боев их почти не воспринимал.
— Гай — удобное имя, — лишь похвалил он. — Главное — короткое, звучное. Собака ведь воспринимает всего один звук своей клички. А то иногда дадут имя Джульетта или Кардинал. Красиво и глупо. Ведь верно?
— Да. Красиво и глупо, — рассеянно повторила женщина вслед за Боевым и внезапно с отчаянием обратилась к офицеру: — Товарищ… простите…
— Майор Боев.
— Товарищ Боев, помогите мне! Я прошу: возьмите у меня собаку! Всего на четыре месяца. Муж — а он у меня моряк, плавает по загранке на БМТ — откуда-то привез Гая уже совсем взрослого. Это было давно. Нет, вы не подумайте худого, собака эта прекрасная, прекрасно воспитана, муж даже водил ее на выставки, ей присуждали медали и эти… как их, дипломы. Но… я женщина, у меня, поймите правильно, свой круг интересов, и мне просто физически тяжело, невыносимо ухаживать за таким большим псом.
Слово «псом» она произнесла на особый манер, с долей отрешения, страха и, как показалось Боеву, брезгливости одновременно. Боев лишь покачал на это головой: видимо, решиться на такой шаг, не посоветовавшись с мужем, женщину и впрямь вынудило отчаяние или еще какие-нибудь крайние обстоятельства.
— Чем я-то могу вам помочь? Собаки у нас свои, а сверх штата мне держать не положено. Да и кто мне будет выделять средства на рацион сверх нормы?
— Да, я знаю. Вот, я приготовила за питание Гая, пока что на месяц, потом я приеду еще. — Она вынула из сумочки две новенькие десятирублевые бумажки, с готовностью протянула их Боеву.
Боев денег не принял, Только поинтересовался:
— Скажите, ваш муж…
— Он слишком редко бывает дома, — поспешно, словно боясь, что ее не дослушают или перебьют, подхватила женщина. — Я уже говорила, что он моряк, а вы знаете, каково быть женой моряка. Он постоянно в плавании, а все заботы по дому лежат на мне, и я… я просто не в состоянии ухаживать еще и за собакой. К тому же я прошу — ну что вам стоит? — приютить Гая не насовсем, а всего на четыре месяца, до возвращения мужа. Сами понимаете, кому из соседей навяжешь такую собаку? И знакомые никто брать не хотят: у всех дети, мало ли что…
Гай беспокойно шевельнул ушами, напрягся телом, поднял непередаваемо красивые агатовые глаза на хозяйку, словно воистину понимал человеческую речь, понимал, что сейчас, может быть, решится его судьба.
— Неужели это так сложно — понять и помочь? — в отчаянии спросила женщина.
— Как хотите, а на четыре месяца не возьму, — решительно отрезал Боев. — Вы, наверное, не представляете, что значит для собаки такая смена хозяев, даже временная. Или навсегда, или ни на один день. А дальше решайте сами.
Женщина закусила губу. Похоже, она с трудом сдерживала слезы.
— Не возьму, и не уговаривайте. — Боев слегка отстранился. — Я тоже люблю животных и… не могу. Либо навсегда, либо ни на день. Извините, меня ждут дела.
Через неделю женщина приехала снова. Боев оказался неподалеку от ворот, увидел, как возле них затормозила легковушка и на землю спрыгнула собака. Он подошел.
— Берите навсегда, я согласна. — Женщина покорно вздохнула, прежде чем передать Боеву поводок. — Ваше дело, верить мне или нет, но это, — она указала на Гая, — самое дорогое, что у меня есть. Только я слишком устала и не хочу, чтобы Гай страдал из-за меня… Вот, если желаете, все документы.
— Ах, как не хотелось Боеву мучить ее вопросами, растравлять сердце уточнением подробностей! Видно было, что женщина и без того страдала, искренне переживала предстоящую разлуку, и Боев, припомнив детали первого их разговора, усомнился: вряд ли хозяйка привезла Гая только потому, что ей стало невмоготу, физически тяжело ухаживать за собакой.
— Скажите, — осторожно подбирая слова, попросил Боев, — почему вы решили расстаться с Гаем?
— Да-да, я расскажу. Знаете, Гай не любит, просто терпеть не может пьяных. Он совершенно звереет, рычит, рвется с поводка… Как-то раз прямо у подъезда дома он в клочья изодрал на мужчине брюки. Представляете? У-у, какой вокруг, всего этого поднялся шум…
Все это время неподалеку от калитки прохаживался часовой и с любопытством, но так, чтобы невзначай не выдать себя, прислушивался к разговору. Боев приказал ему:
— Вызовите ко мне инструктора службы собак.
— Сначала я отвезла Гая к тетке, под Черняховск, та живет в своем доме, — продолжила женщина, машинально поглаживая собаку по шелковистой шее. — Так Гай — я не знаю, что с ним произошло, — вцепился в какого-то бычка и перегрыз ему горло. Жутко, кошмар… Понятно, был суд, я вынуждена была заплатить четыреста восемьдесят рублей за ущерб. Но дело, как вы понимаете, не в деньгах: мой муж достаточно хорошо получает, чтобы подсчитывать каждый рубль. Просто я боюсь, что однажды Гай сорвется, за ним могут приехать люди и… Вы ведь знаете, что я имею в виду. Поэтому мы с Гаем и у вас. Я долго думала, прежде чем решиться, ведь к животному привыкаешь, словно к ребенку. А потом пришло наконец письмо от мужа. Он тоже советует, раз такое дело, отдать Гая вам, и я поняла: лучше, чем на границе, ему не будет нигде.
Подбежал запыхавшийся инструктор службы собак, сержант. Боев указал ему на Гая.
— Отведите собаку в питомник. Карантин.
— Есть! — Сержант принял из рук женщины поводок.
В последний момент, перед тем, как уйти, хозяйка Гая придержала Боева за рукав.
— Я вас прошу только об одном: разрешите мне хоть изредка навещать Гая! Я вас очень прошу. Вы мне обещаете это?
Боев сделал вид, что не расслышал вопроса.
— Прощай, Гай! Будь умницей. — Женщина некоторое время постояла, закрыв глаза, потом несколько раз торопливо поцеловала собаку и, не оглядываясь, пошла от ворот заставы к ожидавшим ее «Жигулям».
Гай дал себя увести, и пока шел, стуча когтями крепких лап по асфальту заставского двора, нет-нет да и поворачивал голову, словно удивляясь, в сторону уже не видной ему за забором хозяйки.
Как ни странно, хозяйка собаки так ни разу больше и не приехала на заставу. Боев не смог бы определенно сказать, что было тому причиной.
Гая поместили в недавно опустевший вольер Доры, погибшей от ножевой раны в схватке с нарушителем. Очевидно, поняв, что отныне он навсегда разлучен с хозяйкой, пес никого к себе не подпускал. Ночью он перемахнул через проволочную сетку вольера, перемахнуть через которую было немыслимо. Но Гай оказался сильным псом, гораздо сильнее тех, которых до этого Боеву приходилось видеть. До рассвета Гай блуждал в поисках хозяйки, на заставу вернулся только к утру. Его пробовали накормить, но безуспешно: Гай ни разу даже не встал, не подошел к своей миске и вовсе не смыкал глаз.
Днем он ушел опять…
На следующее утро, едва подсохла роса, жены Боева и старшины, по обыкновению каждый день делавшие зарядку у офицерского домика, заметили огромную овчарку, приближавшуюся к ним трусцой. Опасливо, зная, что бежать ни в коем случае нельзя, они смотрели на незнакомую собаку, а когда та остановилась рядом и стало ясно, что она не нападет, женщины попробовали ее приласкать. К счастью, кто-то видел эту картину, и на помощь женщинам поспешил инструктор службы собак. Однако Гай встретил его грозным рыком и близко не подпустил. За женщинами же он потянулся, как привязанный, и те, натерпевшись страху, довели-таки его до вольера, закрыли наспех дверцу.
К пище Гай совершенно не притрагивался. Воду тоже не пил, несмотря на то, что пошли уже третьи сутки его одиночества. Правда, и убегать он больше не стремился, может, потому, что чуял: обессиленному забора ему не преодолеть.
Боев подходил к вольеру каждый раз, как выпадала свободная минута. Стоял у сетки, подолгу смотрел на отощавшего Гая. Вспоминал пророчество осматривавшего питомник ветврача отряда, мол, Гай тут не приживется, и начинал поневоле верить в его правоту.
Ему было жаль умное животное, переживавшее, может быть, самую тяжелую трагедию в своей жизни. И надо было что-то срочно предпринимать, чтобы вовсе не потерять породистую собаку.
— Вот что, сержант, — сказал Боев инструктору, — сводите-ка собаку на фланг. Пусть «прогуляется».
Гай позволил надеть на себя ошейник, шагнул вслед за опасливо следившим за ним инструктором, и они вскоре скрылись из виду.
…Обратно Гай шел, едва переставляя ноги. Многие километры пути по дозорной тропе вдоль границы, многочисленные, хотя и не крутые, подъемы и спуски, мостки и речушки, через которые пролегал путь, вымотали его окончательно. Не было сил не то что огрызаться, но и просто стоять.
— Давай, давай, — уже на последних километрах обратной дороги к заставе подбадривал его инструктор. — Это тебе не характер проявлять. Устал, песик? А как же мы-то ходим по стольку километров в день? Учись, браток, надо: теперь это дело твое такое.
В вольере Гай плотно поел — впервые за эти дни. Инструктор сиял, будто новенький полтинник, взахлеб радовался покорности собаки, а значит, и собственной победе над нею. Увидев подошедшего к вольеру Боева, поспешил с радостной вестью:
— Во, уплетает за двоих, только давай! Голод-то, известно, не тетка, пирожка не подаст.
Отдали Гая в школу служебного собаководства, чтобы прошел полный курс наук пограничной собаки. Новым его хозяином, с которым Гая отправили в школу, стал молодой солдат-пограничник первогодок Николай Трофимов. Неизвестно почему, но Гай признал его сразу, и когда однажды, уже на заставе, они вдвоем шли по следу нарушителя, Гай спас Трофимову жизнь: прыгнул на пришельца, закрыл собою инструктора, а сам получил в грудь пулевое ранение навылет. К радости Николая, пуля прошила лишь мягкие ткани, нигде не задев кости…
* * *
Старший лейтенант милиции Николай Трофимов до сих пор не мог забыть своего друга, и всякий раз при воспоминании о нем сердце его замирало от волнения и душевной боли… Когда Николай отслужил срочную и пришел срок расставания, он купил Гаю большой торт — шофер военторговской автолавки специально по его просьбе привез торт издалека, из города, — и пока Гай осторожно слизывал непривычное лакомство, Трофимов, не замечая слез, плакал…
В пограничной полосе
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
6
Боев читал письмо, когда в канцелярию постучали.
Письмо было из Москвы, от сына. «Папа, — писал Валерий, — распространяться о своем житье-бытье в Высшем пограничном командном… и так далее училище я не стану: тебе оно знакомо гораздо лучше. Я же, выражаясь высоким слогом, еще только начинаю свой путь к границе. И скажу лишь о том выводе, который сам — понимаешь, сам! — сделал еще с первых дней службы и учебы: будущий наш офицерский хлеб ох как несладок!
Не спеши осуждать: я не собираюсь плакаться — не такое получил воспитание. Просто я часто слушал твои рассказы о службе в Средней Азии, на Дальнем Востоке и теперь на Балтике, но даже не предполагал, что за всеми твоими увлекательными историями кроется такой тяжкий труд, — я, твой сын, выросший, как ты говоришь, в седле пограничной лошади, знающий границу «от» и «до», и то не предполагал, что это за труд!
Открою тебе маленькую тайну, отец: я всегда смотрел на тебя как на героя, хвастался тобою перед мальчишками, и порою — уж буду откровенным до конца — забывал, что ты «скроен» из того же «материала», что и остальные люди. Что у тебя могут быть не только успехи, ho и неудачи, так же, как у других, может быть плохое настроение или просто болеть голова. Лишь однажды — помнишь? — я случайно увидел, как ты потихоньку от меня и от мамы вырезал на кухне головку русалки из куска янтаря, хотел сделать маме подарок к Восьмому марта. Я тогда страшно удивился: как, ты — и вдруг какая-то прозаическая поделка?! Веришь, я даже не знал, как нравится тебе этот солнечный камень, не подозревал даже, что тебя отлично знают как частого посетителя в Музее янтаря. Потом, гораздо позже, я понял, отчего так удивился. Просто я всегда привык видеть тебя в портупее, с пистолетом всегда занятого делами и только делами границы, совершенно не представлял тебя за обычным делом, не героическим. Смешно, но как же мало я, твой сын, знал тебя! Теперь-то я вижу это отчетливо и о многом жалею, чего, увы, уже никому не дано вернуть…
Нет-нет, не думай: я же пообещал в начале письма, что ни плакать, ни жаловаться не стану! Но мне, отец, почему-то очень надо тебя спросить. Скажи, вот ты служил всюду, а в итоге все равно вернулся туда, где прошли лучшие твои годы, — на Балтику. Это что — случайность? Закономерность? Или, опять-таки выражаясь высоким слогом, зов души? Почему человека так сильно влечет к себе его малая родина, где он впервые познал мир? Ответь обязательно и по возможности подробней. Потому что, надеюсь, ты понимаешь, что после распределения (до которого еще ох как далеко!) я буду проситься в Среднюю Азию, ближе к Копет-Дагу, про вершины которого я как-то в детстве, по твоим рассказам, говорил, что они сделаны из сахара и мороженого, и со слезами рвался туда, чтобы откусить от них хоть кусочек. Детство все, розовое детство, о котором с сожалением вспоминаешь на пороге взросления…
Да, я написал новые стихи. Хочешь, покажу?..» Дальше Боев дочитать не успел, потому что в дверь канцелярии постучали.
— Разрешите, товарищ майор?
Боев поспешно сунул конверт с письмом в стол. На пороге, не решаясь войти, стоял Сапрыкин.
— Товарищ майор, вот я написал… — Сапрыкин протянул начальнику заставы исписанный тетрадный лист в клетку, и Боев заметил, что руки у него при этом дрожали.
Однако читать объяснительную записку солдата начальник заставы не стал. Казалось, он чего-то ожидал, хотя нетерпение его проявлялось лишь в том, как он часто и сильно барабанил пальцами по заваленной бумагами столешнице да хмурил близко сведенные к переносью брови.
Сапрыкин одернул куртку, на этот раз хорошо вычищенную и выглаженную, бросил на майора мимолетный взгляд и затем с глубоким вздохом сказал:
— Извините, товарищ майор, тогда, в первый раз, я сказал вам неправду. Прожектор разбил я сам. Никто из солдат не виноват.
Боев перестал барабанить пальцами, подобрал их в кулак. В зыбком матовом свете, пробивавшемся с улицы сквозь промерзшие двойные стекла боковых окон, сидящий в неподвижности майор показался Сапрыкину похожим на изваяние. Он ждал.
— В общем, дело было так… — принялся объяснять Сапрыкин. — Я поменял свечи и хотел сразу поставить машину в бокс. Стал загонять ее на место, а тут вдруг слышу — треск. Я сначала не понял, что это, думал, что бортом задел ворота, нажал на тормоза, да поздно. Ну, вышел, увидел, что получилось, и… В общем, товарищ майор, я испугался, стою и не соображу, что надо делать. Побежал быстрей в казарму, а сам все думал дорогой, как мне быть. Хотел рассказать обо всем командиру отделения, да он был на службе. И тогда… — Сапрыкин на какое-то время умолк.
— И что тогда?
— Мне вдруг пришло в голову, как надо сделать. Ведь рядом никого не было, никто ничего не видел. Ну я и отогнал машину на середину двора, чтобы поверили, будто на ней кто-то катался. Вот и все.
Ни один мускул не дрогнул на темнокожем, широкоскулом лице майора. Спокойным голосом он сказал:
— Я это знал, товарищ Сапрыкин. Для меня еще в первый день все было ясно. — Он пригнулся к тумбе стола, выдвинул ящик, достал оттуда осколок толстого стекла и продолговатый кусок штукатурки. — Это валялось на снегу, у ворот бокса. Не надо быть криминалистом, чтобы понять, как стекло и штукатурка попали со двора к боксу. Но я все ждал, когда вы сами придете ко мне и расскажете обо всем без утайки. И рад, Сапрыкин, что не ошибся.
Нет, последние слова майора вовсе не были ни одобрением, ни похвалой. Но они непостижимым образом легко, разом сняли с души солдата тот тяжкий гнет, который давил его непомерным грузом, мешал ходить по заставе прямо, не стыдясь смотреть товарищам в глаза, и не было в эту минуту для Сапрыкина награды дороже, желанней, чем это скупое майорское: «Рад, Сапрыкин, что не ошибся».
— Единственное мне непонятно… — задумчиво продолжил майор. — Скажите, Сапрыкин, зачем вам понадобилось загонять машину в чужой бокс, явно не приспособленный для апээмки?
От удивления глаза у Сапрыкина округлились: как это зачем? Ведь ясно, где положено находиться машине, да еще в пургу!.. Но майор подчеркнул: «чужой бокс» — и Сапрыкин вспомнил, взволнованно, торопясь высказаться, заговорил:
— Так вот же… Так в моем же боксе стояла «Волга», я возился с мотором и не видел, когда ее туда поставили. Ну да, «Волга»! Я еще подумал, что приехало начальство, а шофер не знает, чей это бокс, вот и сунул свою бандуру ко мне, я потому и ругаться не стал, иначе бы… Нет, товарищ майор, вот так было. Я хотел выкатить «Волгу», но машина стояла на скорости, а ключа не было, попробовал, да и бросил, петому что бесполезно. На улице еще тогда был мороз, пурга, и я боялся, что мотор апээмки остынет, а воду сливать не хотелось: что толку, скоро все равно было на службу…
— Вы что, Сапрыкин, — перебил майор сбивчивый рассказ водителя, — забыли, какая разница по высоте между обычным боксом и вашей машиной?
— Нет, помнил, — не оттягивая времени для раздумий, ответил Сапрыкин. — Просто я хотел, раз мой бокс занят, а другой, рядом, свободен, чтобы хоть мотор был в тепле, ну, хотел немного заехать по кабину, а там накат, да обледенело как следует, вот и получилось.
— Понятно… — Начальник заставы снова побарабанил пальцами по столу, врастяжку повторил: — По-нят-но. Вот что, Сапрыкин. К прежнему разговору возвращаться не хочу: и так вам должно быть все ясно. Но то, о чем я вам тогда сказал, запомните. Крепко запомните. Только правда, пусть даже самая горькая, помогает человеку жить. Вы слышите? Другого, взамен, ничего нет, по-другому — это не жизнь, а пресмыкание.
А теперь можете быть свободны. Да-да, Сапрыкин, я вас не задерживаю, так что можете идти.
Не ожидая, что разговор, к которому солдат тщательно готовился, завершится так скоро, Сапрыкин сделал несколько шагов, но у двери остановился.
— Извините, товарищ майор, можно вопрос?
— Да, что такое?
— Мне Шарапов говорил, вы специально ездили в город. Что-нибудь удалось сделать?
Боева неприятно кольнуло: вот, уже слухи поползли по заставе!.. Но вслед за этим подумалось и о другом: раз спрашивает, значит, переживает, волнуется, горит надеждой… Живительное тепло разлилось по груди майора от участливого вопроса солдата, но Боев, отсекая прокатившуюся в нем волну доброго чувства, сказал по-отечески грубовато:
— Ладно, Сапрыкин, идите. Надеюсь, удастся. Все удастся. А Шарапову при случае передайте: лишнее будет болтать, накажу.
Приход Сапрыкина чем-то взволновал его, и это волнение не давало Боеву возможности усидеть на месте. Он встал. Прошел к окну, обеими руками оперся о подоконник. И на время забыл обо всем, залюбовался узорами на стекле. Пристально, с полузабытым детским интересом он рассматривал распустившиеся на стекле морозные пальмы и диковинные, сплошь в сахарных рисках, островерхие горы, манящие невиданной, неземной красотой уютные долы и миниатюрные порожистые реки, — не просто смотрел, а видел, чувствовал, осязал ту причудливую картину, которую создал на стекле мороз.
Выбеленные инеем цветы напоминали майору детство, вызвали из забвения, почти из небытия, ту покосившуюся от ветхости хатенку с крошечными заиндевелыми оконцами, где под «охи» и «ахи» неведомой, ни разу больше не виденной бабки так долго и мучительно умирала мать, а он, не понимая того, что вот-вот должно было свершиться, не понимая зловещего смысла происходящего, все подбегал к постели матери, тормошил ее и просил продышать ему на стекле дырочку, в которую был бы виден заснеженный лес и застывшая под деревянным мостиком речка… И так же, как в детстве, Боеву вдруг захотелось сейчас увидеть сквозь протаянное оконце насквозь выстуженный простор, над которым всецело, властно хозяйничала зима. Он похлопал себя по карманам, выслушивая мелочь. Достал попавший в пальцы пятак, согрел его дыханием, приложил к наросшему у щели снеговому бугорку. Монета отпечаталась до последней буковки, но стекла не достала. Буквы выделялись на белом, как нарисованные. Он подышал еще раз, приложил пятак рядом. И внезапно устыдился непонятно откуда взявшегося в нем мальчишества, поспешно выколупнул из ямки пристывшую монету, торопливо вернулся к рабочему столу.
Что-то неотвязно напоминало ему о приятном деле. Он вскоре вспомнил: письмо от сына! Заново достал конверт из стола, нашел место, на котором прервал чтение. Стихи! Шевеля губами, Боев начал читать вслух:
Возле моря, у серого камня,
Откровенно завидуя взрослым,
Спрятав щеки в ладони, мечтал я:
«Обязательно буду матросом!»
Но не плаваю в синем просторе,
Полюбились мне травы степные.
А потом полюбились и горы.
А матросами стали другие.
В девятнадцать безудержно, слепо,
Устремляясь за птичьим полетом,
Заболела душа моя небом,
Растравила: «Я буду пилотом!»
Но, увы, не летаю, как птица,
Небеса разрезая тугие,
Я узнал, что такое граница…
А пилотами стали другие.
«Вот, папа, и все, — дочитал Боев последние строки. — О многом бы мне хотелось еще тебя расспросить, но писать больше некогда, будет время, продолжу, а пока спешу на тактику. До свидания, или, как всегда говорили у нас на границе, — до связи. Валерий».
К вечеру того же дня до заставы дозвонился старший лейтенант милиции Николай Трофимов. Пробиваясь издалека, через двойное или тройное соединение по гражданским линиям, голос его то пропадал, снижаясь до плавающих басовых нот, как бывает, когда пустишь пластинку не на тех оборотах, то возобновлялся опять — так, будто Трофимов находился рядом, за стенкой.
С досадой Боев посетовал на неустойчивую связь, слабую слышимость, из-за которых он многое упустил в разговоре. Тем не менее удалось разобрать главное: с аэропортом договоренность есть. Оставалось лишь приехать и урегулировать вопрос на месте.
— Привет Гаю! — еще успел сказать бывший сержант, как линию тотчас разъединили.
Доставить же драгоценный груз на заставу из аэропорта, произвести замену купольного стекла и зеркала на вышедшей из строя апээмки было делом несложным и много времени не отняло.
Боев читал письмо, когда в канцелярию постучали.
Письмо было из Москвы, от сына. «Папа, — писал Валерий, — распространяться о своем житье-бытье в Высшем пограничном командном… и так далее училище я не стану: тебе оно знакомо гораздо лучше. Я же, выражаясь высоким слогом, еще только начинаю свой путь к границе. И скажу лишь о том выводе, который сам — понимаешь, сам! — сделал еще с первых дней службы и учебы: будущий наш офицерский хлеб ох как несладок!
Не спеши осуждать: я не собираюсь плакаться — не такое получил воспитание. Просто я часто слушал твои рассказы о службе в Средней Азии, на Дальнем Востоке и теперь на Балтике, но даже не предполагал, что за всеми твоими увлекательными историями кроется такой тяжкий труд, — я, твой сын, выросший, как ты говоришь, в седле пограничной лошади, знающий границу «от» и «до», и то не предполагал, что это за труд!
Открою тебе маленькую тайну, отец: я всегда смотрел на тебя как на героя, хвастался тобою перед мальчишками, и порою — уж буду откровенным до конца — забывал, что ты «скроен» из того же «материала», что и остальные люди. Что у тебя могут быть не только успехи, ho и неудачи, так же, как у других, может быть плохое настроение или просто болеть голова. Лишь однажды — помнишь? — я случайно увидел, как ты потихоньку от меня и от мамы вырезал на кухне головку русалки из куска янтаря, хотел сделать маме подарок к Восьмому марта. Я тогда страшно удивился: как, ты — и вдруг какая-то прозаическая поделка?! Веришь, я даже не знал, как нравится тебе этот солнечный камень, не подозревал даже, что тебя отлично знают как частого посетителя в Музее янтаря. Потом, гораздо позже, я понял, отчего так удивился. Просто я всегда привык видеть тебя в портупее, с пистолетом всегда занятого делами и только делами границы, совершенно не представлял тебя за обычным делом, не героическим. Смешно, но как же мало я, твой сын, знал тебя! Теперь-то я вижу это отчетливо и о многом жалею, чего, увы, уже никому не дано вернуть…
Нет-нет, не думай: я же пообещал в начале письма, что ни плакать, ни жаловаться не стану! Но мне, отец, почему-то очень надо тебя спросить. Скажи, вот ты служил всюду, а в итоге все равно вернулся туда, где прошли лучшие твои годы, — на Балтику. Это что — случайность? Закономерность? Или, опять-таки выражаясь высоким слогом, зов души? Почему человека так сильно влечет к себе его малая родина, где он впервые познал мир? Ответь обязательно и по возможности подробней. Потому что, надеюсь, ты понимаешь, что после распределения (до которого еще ох как далеко!) я буду проситься в Среднюю Азию, ближе к Копет-Дагу, про вершины которого я как-то в детстве, по твоим рассказам, говорил, что они сделаны из сахара и мороженого, и со слезами рвался туда, чтобы откусить от них хоть кусочек. Детство все, розовое детство, о котором с сожалением вспоминаешь на пороге взросления…
Да, я написал новые стихи. Хочешь, покажу?..» Дальше Боев дочитать не успел, потому что в дверь канцелярии постучали.
— Разрешите, товарищ майор?
Боев поспешно сунул конверт с письмом в стол. На пороге, не решаясь войти, стоял Сапрыкин.
— Товарищ майор, вот я написал… — Сапрыкин протянул начальнику заставы исписанный тетрадный лист в клетку, и Боев заметил, что руки у него при этом дрожали.
Однако читать объяснительную записку солдата начальник заставы не стал. Казалось, он чего-то ожидал, хотя нетерпение его проявлялось лишь в том, как он часто и сильно барабанил пальцами по заваленной бумагами столешнице да хмурил близко сведенные к переносью брови.
Сапрыкин одернул куртку, на этот раз хорошо вычищенную и выглаженную, бросил на майора мимолетный взгляд и затем с глубоким вздохом сказал:
— Извините, товарищ майор, тогда, в первый раз, я сказал вам неправду. Прожектор разбил я сам. Никто из солдат не виноват.
Боев перестал барабанить пальцами, подобрал их в кулак. В зыбком матовом свете, пробивавшемся с улицы сквозь промерзшие двойные стекла боковых окон, сидящий в неподвижности майор показался Сапрыкину похожим на изваяние. Он ждал.
— В общем, дело было так… — принялся объяснять Сапрыкин. — Я поменял свечи и хотел сразу поставить машину в бокс. Стал загонять ее на место, а тут вдруг слышу — треск. Я сначала не понял, что это, думал, что бортом задел ворота, нажал на тормоза, да поздно. Ну, вышел, увидел, что получилось, и… В общем, товарищ майор, я испугался, стою и не соображу, что надо делать. Побежал быстрей в казарму, а сам все думал дорогой, как мне быть. Хотел рассказать обо всем командиру отделения, да он был на службе. И тогда… — Сапрыкин на какое-то время умолк.
— И что тогда?
— Мне вдруг пришло в голову, как надо сделать. Ведь рядом никого не было, никто ничего не видел. Ну я и отогнал машину на середину двора, чтобы поверили, будто на ней кто-то катался. Вот и все.
Ни один мускул не дрогнул на темнокожем, широкоскулом лице майора. Спокойным голосом он сказал:
— Я это знал, товарищ Сапрыкин. Для меня еще в первый день все было ясно. — Он пригнулся к тумбе стола, выдвинул ящик, достал оттуда осколок толстого стекла и продолговатый кусок штукатурки. — Это валялось на снегу, у ворот бокса. Не надо быть криминалистом, чтобы понять, как стекло и штукатурка попали со двора к боксу. Но я все ждал, когда вы сами придете ко мне и расскажете обо всем без утайки. И рад, Сапрыкин, что не ошибся.
Нет, последние слова майора вовсе не были ни одобрением, ни похвалой. Но они непостижимым образом легко, разом сняли с души солдата тот тяжкий гнет, который давил его непомерным грузом, мешал ходить по заставе прямо, не стыдясь смотреть товарищам в глаза, и не было в эту минуту для Сапрыкина награды дороже, желанней, чем это скупое майорское: «Рад, Сапрыкин, что не ошибся».
— Единственное мне непонятно… — задумчиво продолжил майор. — Скажите, Сапрыкин, зачем вам понадобилось загонять машину в чужой бокс, явно не приспособленный для апээмки?
От удивления глаза у Сапрыкина округлились: как это зачем? Ведь ясно, где положено находиться машине, да еще в пургу!.. Но майор подчеркнул: «чужой бокс» — и Сапрыкин вспомнил, взволнованно, торопясь высказаться, заговорил:
— Так вот же… Так в моем же боксе стояла «Волга», я возился с мотором и не видел, когда ее туда поставили. Ну да, «Волга»! Я еще подумал, что приехало начальство, а шофер не знает, чей это бокс, вот и сунул свою бандуру ко мне, я потому и ругаться не стал, иначе бы… Нет, товарищ майор, вот так было. Я хотел выкатить «Волгу», но машина стояла на скорости, а ключа не было, попробовал, да и бросил, петому что бесполезно. На улице еще тогда был мороз, пурга, и я боялся, что мотор апээмки остынет, а воду сливать не хотелось: что толку, скоро все равно было на службу…
— Вы что, Сапрыкин, — перебил майор сбивчивый рассказ водителя, — забыли, какая разница по высоте между обычным боксом и вашей машиной?
— Нет, помнил, — не оттягивая времени для раздумий, ответил Сапрыкин. — Просто я хотел, раз мой бокс занят, а другой, рядом, свободен, чтобы хоть мотор был в тепле, ну, хотел немного заехать по кабину, а там накат, да обледенело как следует, вот и получилось.
— Понятно… — Начальник заставы снова побарабанил пальцами по столу, врастяжку повторил: — По-нят-но. Вот что, Сапрыкин. К прежнему разговору возвращаться не хочу: и так вам должно быть все ясно. Но то, о чем я вам тогда сказал, запомните. Крепко запомните. Только правда, пусть даже самая горькая, помогает человеку жить. Вы слышите? Другого, взамен, ничего нет, по-другому — это не жизнь, а пресмыкание.
А теперь можете быть свободны. Да-да, Сапрыкин, я вас не задерживаю, так что можете идти.
Не ожидая, что разговор, к которому солдат тщательно готовился, завершится так скоро, Сапрыкин сделал несколько шагов, но у двери остановился.
— Извините, товарищ майор, можно вопрос?
— Да, что такое?
— Мне Шарапов говорил, вы специально ездили в город. Что-нибудь удалось сделать?
Боева неприятно кольнуло: вот, уже слухи поползли по заставе!.. Но вслед за этим подумалось и о другом: раз спрашивает, значит, переживает, волнуется, горит надеждой… Живительное тепло разлилось по груди майора от участливого вопроса солдата, но Боев, отсекая прокатившуюся в нем волну доброго чувства, сказал по-отечески грубовато:
— Ладно, Сапрыкин, идите. Надеюсь, удастся. Все удастся. А Шарапову при случае передайте: лишнее будет болтать, накажу.
Приход Сапрыкина чем-то взволновал его, и это волнение не давало Боеву возможности усидеть на месте. Он встал. Прошел к окну, обеими руками оперся о подоконник. И на время забыл обо всем, залюбовался узорами на стекле. Пристально, с полузабытым детским интересом он рассматривал распустившиеся на стекле морозные пальмы и диковинные, сплошь в сахарных рисках, островерхие горы, манящие невиданной, неземной красотой уютные долы и миниатюрные порожистые реки, — не просто смотрел, а видел, чувствовал, осязал ту причудливую картину, которую создал на стекле мороз.
Выбеленные инеем цветы напоминали майору детство, вызвали из забвения, почти из небытия, ту покосившуюся от ветхости хатенку с крошечными заиндевелыми оконцами, где под «охи» и «ахи» неведомой, ни разу больше не виденной бабки так долго и мучительно умирала мать, а он, не понимая того, что вот-вот должно было свершиться, не понимая зловещего смысла происходящего, все подбегал к постели матери, тормошил ее и просил продышать ему на стекле дырочку, в которую был бы виден заснеженный лес и застывшая под деревянным мостиком речка… И так же, как в детстве, Боеву вдруг захотелось сейчас увидеть сквозь протаянное оконце насквозь выстуженный простор, над которым всецело, властно хозяйничала зима. Он похлопал себя по карманам, выслушивая мелочь. Достал попавший в пальцы пятак, согрел его дыханием, приложил к наросшему у щели снеговому бугорку. Монета отпечаталась до последней буковки, но стекла не достала. Буквы выделялись на белом, как нарисованные. Он подышал еще раз, приложил пятак рядом. И внезапно устыдился непонятно откуда взявшегося в нем мальчишества, поспешно выколупнул из ямки пристывшую монету, торопливо вернулся к рабочему столу.
Что-то неотвязно напоминало ему о приятном деле. Он вскоре вспомнил: письмо от сына! Заново достал конверт из стола, нашел место, на котором прервал чтение. Стихи! Шевеля губами, Боев начал читать вслух:
Возле моря, у серого камня,
Откровенно завидуя взрослым,
Спрятав щеки в ладони, мечтал я:
«Обязательно буду матросом!»
Но не плаваю в синем просторе,
Полюбились мне травы степные.
А потом полюбились и горы.
А матросами стали другие.
В девятнадцать безудержно, слепо,
Устремляясь за птичьим полетом,
Заболела душа моя небом,
Растравила: «Я буду пилотом!»
Но, увы, не летаю, как птица,
Небеса разрезая тугие,
Я узнал, что такое граница…
А пилотами стали другие.
«Вот, папа, и все, — дочитал Боев последние строки. — О многом бы мне хотелось еще тебя расспросить, но писать больше некогда, будет время, продолжу, а пока спешу на тактику. До свидания, или, как всегда говорили у нас на границе, — до связи. Валерий».
К вечеру того же дня до заставы дозвонился старший лейтенант милиции Николай Трофимов. Пробиваясь издалека, через двойное или тройное соединение по гражданским линиям, голос его то пропадал, снижаясь до плавающих басовых нот, как бывает, когда пустишь пластинку не на тех оборотах, то возобновлялся опять — так, будто Трофимов находился рядом, за стенкой.
С досадой Боев посетовал на неустойчивую связь, слабую слышимость, из-за которых он многое упустил в разговоре. Тем не менее удалось разобрать главное: с аэропортом договоренность есть. Оставалось лишь приехать и урегулировать вопрос на месте.
— Привет Гаю! — еще успел сказать бывший сержант, как линию тотчас разъединили.
Доставить же драгоценный груз на заставу из аэропорта, произвести замену купольного стекла и зеркала на вышедшей из строя апээмки было делом несложным и много времени не отняло.
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
7
— Заходите, товарищ майор! Прошу, Василий Иванович, присаживайтесь.
Начальник отряда невольно взглянул на часы: четверть двенадцатого. Время, которое он и назначил для беседы с майором Боевым.
— Вы точны, — счел нужным заметить Ковалев, чтобы как-то завязать разговор.
— Точность — вежливость королей… — мгновенно отреагировал Боев.
— И привилегия пограничников, — не без удовольствия добавил начальник отряда.
Боев прищурился, кашлянул в кулак.
— Так говорит мой сын.
— А так говорю я, — в тон Боеву ответил подполковник Ковалев, и оба они враз рассмеялись, по каким-то неуловимым признакам поняв, что смогут достичь по всем вопросам обоюдного, согласия, что непременно поладят.
Боев исподволь наблюдал за Ковалевым. Он впервые видел его хотя и в служебном кабинете, но в неслужебной, полуофициальной обстановке, на которую почти без слов сумел намекнуть, легко настроить его Ковалев.
Признаться, Боев удивлялся разительной перемене, на глазах происшедшей с начальником отряда. Резковатый на людях, по первому впечатлению жесткий, сухой, как говорят, служака, теперь он выглядел не то чтобы по-домашнему (форма не позволяла увидеть его таким), но и не тем, каким он представился Боеву в свой памятный, так неудачно сложившийся для Боева приезд на заставу,
И Ковалев тоже приглядывался к майору Боеву, о котором успел получить от разных людей отзывы как об одном из лучших офицеров части. Он был откровенно рад, что собственное его восприятие Боева во многом, если не во всем, совпадало с оценкой деловых и прочих качеств, данных ему офицерами штаба. Та же душевная приязнь прозвучала и в его вопросе:
— Ваш сын, я слышал, учится?
— Да. Он курсант пограничного училища,
— После окончания пойдет по стопам отца? Надеюсь, попросится в наш отряд?
Боев лишь слегка задержался с ответом. Но и этой паузы хватило, чтобы Ковалев понял: даже и в случае нужды Боев не станет ходатайствовать за сына, не такой он человек.
— Не думаю. У него свой путь. Хочет начать службу в горах, где родился.
Это все еще были «пристрелочные» фразы, совершенно не проявлявшие ни сути вызова Боева в отряд, ни характера предстоящего разговора с Ковалевым, Однако за внешней их праздностью угадывалось слабое, едва заметное напряжение, озабоченность.
Собственно, Боев почти наверняка знал, что явилось причиной вызова: просто иного повода, кроме досадной поломки машины, быть не могло. Но где-то глубоко в нем жила и надежда, что разговор пойдет по другому руслу, каким-нибудь чудом не коснется щекотливой темы. И на первых порах его надежды оправдались.
Ковалев выбрал из стопы газет на столе одну, с броским военным заголовком, с шуршанием развернул ее так, чтобы Боеву видна была вся полоса.
— Вы сегодняшние газеты просматривали?
— Не успел, — извинился Боев. — Почту застава получает позже, я уже был в дороге.
— Это хорошо, — неизвестно чему обрадовался Ковалев и склонился к газете. — Вот здесь написано… Читаю: «Только несведущий, далекий от службы человек полагает, будто границу охраняют, крепко взявшись за руки и растянувшись цепочкой вдоль рубежа. Наивное это представление характерно и вполне оправданно, если речь идет о школьнике… Гораздо хуже, когда люди в погонах, должностные лица уподобляются школьникам: делают ставку единственно лишь на живую силу. Не наличие живой, даже очень многочисленной силы определяет сегодня несокрушимость границы, а наличие и грамотное использование специалистами современной техники. Крепость передовой линии обеспечивает также применение современных методов охраны государственного рубежа, творческого, а не формального подхода ко всему тому, чем живут ныне пограничные войска. Бесспорно, солдатам отводится исключительная роль. Но без технических средств бесполезны будут и их стойкость, и стремление к высочайшей бдительности, дисциплине, и характерный молодости энтузиазм…».
Подполковник Ковалев еще раз повторил явно понравившуюся ему фразу:
— «И характерный молодости энтузиазм…». Да, именно так. Ну вот, однако, дальше: «Сегодня в наших войсках немыслим тип человека, который тщательно приходует в реестрах поступающую технику, еще более тщательно, на долгий срок консервирует ее и, доложив по команде об имеющейся в наличии электроники, берется за… дедовскую лопату. Сама жизнь безжалостно удаляет с дороги тех, кто так или иначе препятствует техническому прогрессу в войсках. Так скальпель хирурга, облегчая страдания всего организма, удаляет с тела зловредную, совершенно бесполезную опухоль…»
Ковалев отложил газету. Минуту сидел в задумчивости, потом обратил взгляд на Боева.
— Хлестко, ничего не скажешь. И что называется, в духе требований момента.
За все время чтения Боев ни разу даже не пошевелился. Он и теперь не знал, как реагировать не последнее замечание Ковалева, с удивлением встрепенулся, когда начальник отряда его спросил:
— Не узнаете? Это же ваше интервью корреспонденту окружной пограничной газеты.
Боев припомнил: действительно примерно месяца три назад на заставе работал корреспондент, дотошно расспрашивал Боева о применении техники в охране границы, особенно интересовался его личным мнением, мотался с ним на восстановление разрушенных дождями инженерно-технических сооружений и на ПТН… Конечно, Боев давно уже забыл подробности своей беседы с корреспондентом, просто не придал им тогда значения, было недосуг, и потому теперь запоздало высказал свое недовольство:
— Очень уж красиво я изъясняюсь. Будто теоретик научно-технического прогресса…
— Но по сути? — не отступался Ковалев, бережно разглаживая газету, чтобы затем передать ее автору статьи. — По сути-то правильно?
— В общем, наверно… правильно. Это что касается самого вопроса…
— Значит, согласны? Я так и думал! — Ковалев удовлетворенно пристукнул ребром ладони по столу. — И вы знаете, Василий Иванович, мне нравится эта ваша убежденность, которая прослеживается в статье… Кстати, возьмите газету. Она с большим правом принадлежит вам.
Боев принял газету, свернул ее трубочкой, а дальше не знал, куда ее положить, так и держал зажатой в руке, будто бегун эстафетную палочку.
— Видите ли, — раздумчиво протянул Ковалев, — мне до сих пор не дает покоя наш с вами разговор на заставе. Помните, я упомянул об аэросанях? Все-таки есть на участке отряда немало мест, где можно и нужно применять если не аэросани, то хотя бы снегоходы. Например, вдоль залива. Да и тыловые дороги вполне пригодны… А чему вы, собственно, улыбаетесь? — внезапно спросил подполковник. — Я что-нибудь не так сказал?
— Да нет, все так, — поспешил заверить его Боев. — Просто я подумал, что обильный снег здесь — явление редкое, и техника будет только зря простаивать, ржаветь. А мест, конечно, найдется немало.
— Вон вы о чем! Эта проблема легко разрешима. В бесснежные зимы техника консервируется и стоит себе до востребования. Да, кстати, если уж мы говорим о технике, о передовых методах охраны границы… — Голос начальника отряда построжал. — Почему это вы, Василий Иванович, прибегли к такому странному, я бы даже сказал… подозрительному способу снабжения заставы? Я имею в виду всю эту историю со стеклом.
Боев вздохнул: вот тебе и повод, по которому он получил вызов к начальнику отряда! Все же не удалось избежать щекотливого разговора, как он надеялся вначале.
А Ковалев продолжал:
— Ну какая срочная надобность была обращаться в аэропорт? Сами понимаете, от такой самодеятельности у гражданских может создаться совершенно превратное впечатление о войсках, конкретно, об отряде.
— Значит, был вынужден, — ответил Боев со вздохом.
— Как это — «вынужден»? — сердито насупился Ковалев. — Что мы, нищие, просить помощи на стороне? Не способны обойтись собственными силами? Разве не проще было бы действовать через службу?
— Проще-то, проще, товарищ подполковник, — ответил Боев, невольно привставая со своего стула. — Да только…
— Что — «только»?
— Мне доводилось слышать хорошую восточную поговорку: «Дорога легче, когда на ней встретится добрый попутчик».
— Не понял! С кем это вам не по пути?
— Не с кем, а почему, — ничуть не смущаясь прямого взгляда подполковника, ответил начальник заставы.
— Странно… — Ковалев прокашлялся, отхлебнул из простого граненого стакана глоток холодного чая, еще раз повторил: — Весьма странно. Можно подумать, у нас своих запчастей не хватает!
— Наверное, хватает, — сдержанно согласился Боев. — Но майор Кулик объяснил мне, что сейчас, в данный момент, ни стекла, ни зеркала на складе нет. Я же не мог ждать.
Ковалев тут же нажал на клавишу селектора, отдал распоряжение дежурному офицеру отряда:
— Вызовите ко мне майора Кулика!
Тот явился на зов запыхавшийся — видимо, бежал издалека. Не дав Кулику как следует отдышаться, Ковалев задал ему вопрос:
— Доложите, что с купольным стеклом на складе?
Кулика передернуло. Метнув красноречивый взгляд на Боева, начальник автотракторной службы отряда ответил после небольшой заминки:
— Есть.
— Сколько? — напористо уточнил Ковалев, не оставляя Кулику времени для раздумий.
— В достаточном количестве.
Жесткая, уже знакомая Боеву складка рассекла смуглое лицо Ковалева пополам.
— В достаточном… — повторил вслед за Куликом
Ковалев, будто пробуя чужое слово на вкус. — Тогда почему же, позволительно спросить, офицер, начальник заставы, вынужден действовать, как обыкновенный попрошайка? — вскипел Ковалев. — Почему, я вас спрашиваю.
Кулик пожал плечами:
— У меня он совета не спрашивал. Это его личное дело, добывать стекло на стороне или взять у нас. И вообще, с какой стати я должен оправдываться за чужую самодеятельность? У меня и своих забот…
В его невозмутимости было что-то оскорбительное, глубоко неприятное Ковалеву; откровенная наглость начальника автотракторной службы, граничившая с вызовом, обескураживала. Но внешне, формально предъявить к нему претензии было не за что: Кулик балансировал на опасной грани приличий, предусмотрительно не переступая черты. Поддаваться же предложенной Куликом игре, быть ее участником начальнику отряда не хотелось.
— На Боева не кивайте. Он ответит и за ненужную самодеятельность, и за напрасную инициативу, А вы отвечайте за себя: почему вовремя не обеспечили заставу?
— Майор Боев не обращался ко мне с таким вопросом. Мало ли, у кого и в чем нужда, какие личные просьбы! В памяти всего не удержишь. А ведь существует определенный порядок: и рапорт по команде, и заявка…
У Боева аж глаза полезли на лоб: как это не обращался? Вот это поворотик! Вот это кульбит! Как в хоккее: два ноль, и все в наши ворота…
— Что, вам обязательно нужна персональная просьба? — не выдержал Ковалев. — Или сами не видели, какое положение на заставе? В конце концов, это ваша обязанность — заниматься тем, что определено вашими функциональными обязанностями согласно занимаемой должности, и будьте любезны…
Чувствуя, как его «понесло», Ковалев с усилием остановился — именно в тот момент, когда Кулик вскинул голову, круто выгнул шею и ответил на этот раз дерзко, с вызовом:
— Я должность не выпрашивал. Можете… освобождать. Боев уже давно рвется на мое место! — Сказал, вновь набычил голову, пахнул жарким воздухом, будто паровоз на лихом подъеме, и умолк.
«Вон в чем дело!» — изумился Боев.
Только сейчас он запоздало сообразил, понял со стыдом и недоумением, где крылась причина неприязни к нему Кулика и, признаться, немало этому удивился, потому что даже мысленно, не то что наяву, не примерялся к должности отрядного технаря.
— Потребуется, уж будьте уверены: я смогу обойтись и без вашего согласия, майор Кулик, — довольно спокойно, с иронией произнес начальник отряда. — Полномочия мне на то даны. А чтобы у вас на этот счет не оставалось сомнений, я вам приказываю: немедленно распорядитесь, и сегодня же, вы слышите, сегодня же, лично возвратите стекло в аэропорт. Об исполнении доложить. Все. Свободны.
Дверь за Куликом хлопнула так, будто он отгораживался ею не только от разгневанного Ковалева и побледневшего, тяжело посапывающего Боева, но и от всего мира.
— А вас, майор Боев, попрошу остаться. Мне хотелось бы обсудить с вами, Василий Иванович, еще несколько вопросов. Итак, на чем мы остановились?..
— Заходите, товарищ майор! Прошу, Василий Иванович, присаживайтесь.
Начальник отряда невольно взглянул на часы: четверть двенадцатого. Время, которое он и назначил для беседы с майором Боевым.
— Вы точны, — счел нужным заметить Ковалев, чтобы как-то завязать разговор.
— Точность — вежливость королей… — мгновенно отреагировал Боев.
— И привилегия пограничников, — не без удовольствия добавил начальник отряда.
Боев прищурился, кашлянул в кулак.
— Так говорит мой сын.
— А так говорю я, — в тон Боеву ответил подполковник Ковалев, и оба они враз рассмеялись, по каким-то неуловимым признакам поняв, что смогут достичь по всем вопросам обоюдного, согласия, что непременно поладят.
Боев исподволь наблюдал за Ковалевым. Он впервые видел его хотя и в служебном кабинете, но в неслужебной, полуофициальной обстановке, на которую почти без слов сумел намекнуть, легко настроить его Ковалев.
Признаться, Боев удивлялся разительной перемене, на глазах происшедшей с начальником отряда. Резковатый на людях, по первому впечатлению жесткий, сухой, как говорят, служака, теперь он выглядел не то чтобы по-домашнему (форма не позволяла увидеть его таким), но и не тем, каким он представился Боеву в свой памятный, так неудачно сложившийся для Боева приезд на заставу,
И Ковалев тоже приглядывался к майору Боеву, о котором успел получить от разных людей отзывы как об одном из лучших офицеров части. Он был откровенно рад, что собственное его восприятие Боева во многом, если не во всем, совпадало с оценкой деловых и прочих качеств, данных ему офицерами штаба. Та же душевная приязнь прозвучала и в его вопросе:
— Ваш сын, я слышал, учится?
— Да. Он курсант пограничного училища,
— После окончания пойдет по стопам отца? Надеюсь, попросится в наш отряд?
Боев лишь слегка задержался с ответом. Но и этой паузы хватило, чтобы Ковалев понял: даже и в случае нужды Боев не станет ходатайствовать за сына, не такой он человек.
— Не думаю. У него свой путь. Хочет начать службу в горах, где родился.
Это все еще были «пристрелочные» фразы, совершенно не проявлявшие ни сути вызова Боева в отряд, ни характера предстоящего разговора с Ковалевым, Однако за внешней их праздностью угадывалось слабое, едва заметное напряжение, озабоченность.
Собственно, Боев почти наверняка знал, что явилось причиной вызова: просто иного повода, кроме досадной поломки машины, быть не могло. Но где-то глубоко в нем жила и надежда, что разговор пойдет по другому руслу, каким-нибудь чудом не коснется щекотливой темы. И на первых порах его надежды оправдались.
Ковалев выбрал из стопы газет на столе одну, с броским военным заголовком, с шуршанием развернул ее так, чтобы Боеву видна была вся полоса.
— Вы сегодняшние газеты просматривали?
— Не успел, — извинился Боев. — Почту застава получает позже, я уже был в дороге.
— Это хорошо, — неизвестно чему обрадовался Ковалев и склонился к газете. — Вот здесь написано… Читаю: «Только несведущий, далекий от службы человек полагает, будто границу охраняют, крепко взявшись за руки и растянувшись цепочкой вдоль рубежа. Наивное это представление характерно и вполне оправданно, если речь идет о школьнике… Гораздо хуже, когда люди в погонах, должностные лица уподобляются школьникам: делают ставку единственно лишь на живую силу. Не наличие живой, даже очень многочисленной силы определяет сегодня несокрушимость границы, а наличие и грамотное использование специалистами современной техники. Крепость передовой линии обеспечивает также применение современных методов охраны государственного рубежа, творческого, а не формального подхода ко всему тому, чем живут ныне пограничные войска. Бесспорно, солдатам отводится исключительная роль. Но без технических средств бесполезны будут и их стойкость, и стремление к высочайшей бдительности, дисциплине, и характерный молодости энтузиазм…».
Подполковник Ковалев еще раз повторил явно понравившуюся ему фразу:
— «И характерный молодости энтузиазм…». Да, именно так. Ну вот, однако, дальше: «Сегодня в наших войсках немыслим тип человека, который тщательно приходует в реестрах поступающую технику, еще более тщательно, на долгий срок консервирует ее и, доложив по команде об имеющейся в наличии электроники, берется за… дедовскую лопату. Сама жизнь безжалостно удаляет с дороги тех, кто так или иначе препятствует техническому прогрессу в войсках. Так скальпель хирурга, облегчая страдания всего организма, удаляет с тела зловредную, совершенно бесполезную опухоль…»
Ковалев отложил газету. Минуту сидел в задумчивости, потом обратил взгляд на Боева.
— Хлестко, ничего не скажешь. И что называется, в духе требований момента.
За все время чтения Боев ни разу даже не пошевелился. Он и теперь не знал, как реагировать не последнее замечание Ковалева, с удивлением встрепенулся, когда начальник отряда его спросил:
— Не узнаете? Это же ваше интервью корреспонденту окружной пограничной газеты.
Боев припомнил: действительно примерно месяца три назад на заставе работал корреспондент, дотошно расспрашивал Боева о применении техники в охране границы, особенно интересовался его личным мнением, мотался с ним на восстановление разрушенных дождями инженерно-технических сооружений и на ПТН… Конечно, Боев давно уже забыл подробности своей беседы с корреспондентом, просто не придал им тогда значения, было недосуг, и потому теперь запоздало высказал свое недовольство:
— Очень уж красиво я изъясняюсь. Будто теоретик научно-технического прогресса…
— Но по сути? — не отступался Ковалев, бережно разглаживая газету, чтобы затем передать ее автору статьи. — По сути-то правильно?
— В общем, наверно… правильно. Это что касается самого вопроса…
— Значит, согласны? Я так и думал! — Ковалев удовлетворенно пристукнул ребром ладони по столу. — И вы знаете, Василий Иванович, мне нравится эта ваша убежденность, которая прослеживается в статье… Кстати, возьмите газету. Она с большим правом принадлежит вам.
Боев принял газету, свернул ее трубочкой, а дальше не знал, куда ее положить, так и держал зажатой в руке, будто бегун эстафетную палочку.
— Видите ли, — раздумчиво протянул Ковалев, — мне до сих пор не дает покоя наш с вами разговор на заставе. Помните, я упомянул об аэросанях? Все-таки есть на участке отряда немало мест, где можно и нужно применять если не аэросани, то хотя бы снегоходы. Например, вдоль залива. Да и тыловые дороги вполне пригодны… А чему вы, собственно, улыбаетесь? — внезапно спросил подполковник. — Я что-нибудь не так сказал?
— Да нет, все так, — поспешил заверить его Боев. — Просто я подумал, что обильный снег здесь — явление редкое, и техника будет только зря простаивать, ржаветь. А мест, конечно, найдется немало.
— Вон вы о чем! Эта проблема легко разрешима. В бесснежные зимы техника консервируется и стоит себе до востребования. Да, кстати, если уж мы говорим о технике, о передовых методах охраны границы… — Голос начальника отряда построжал. — Почему это вы, Василий Иванович, прибегли к такому странному, я бы даже сказал… подозрительному способу снабжения заставы? Я имею в виду всю эту историю со стеклом.
Боев вздохнул: вот тебе и повод, по которому он получил вызов к начальнику отряда! Все же не удалось избежать щекотливого разговора, как он надеялся вначале.
А Ковалев продолжал:
— Ну какая срочная надобность была обращаться в аэропорт? Сами понимаете, от такой самодеятельности у гражданских может создаться совершенно превратное впечатление о войсках, конкретно, об отряде.
— Значит, был вынужден, — ответил Боев со вздохом.
— Как это — «вынужден»? — сердито насупился Ковалев. — Что мы, нищие, просить помощи на стороне? Не способны обойтись собственными силами? Разве не проще было бы действовать через службу?
— Проще-то, проще, товарищ подполковник, — ответил Боев, невольно привставая со своего стула. — Да только…
— Что — «только»?
— Мне доводилось слышать хорошую восточную поговорку: «Дорога легче, когда на ней встретится добрый попутчик».
— Не понял! С кем это вам не по пути?
— Не с кем, а почему, — ничуть не смущаясь прямого взгляда подполковника, ответил начальник заставы.
— Странно… — Ковалев прокашлялся, отхлебнул из простого граненого стакана глоток холодного чая, еще раз повторил: — Весьма странно. Можно подумать, у нас своих запчастей не хватает!
— Наверное, хватает, — сдержанно согласился Боев. — Но майор Кулик объяснил мне, что сейчас, в данный момент, ни стекла, ни зеркала на складе нет. Я же не мог ждать.
Ковалев тут же нажал на клавишу селектора, отдал распоряжение дежурному офицеру отряда:
— Вызовите ко мне майора Кулика!
Тот явился на зов запыхавшийся — видимо, бежал издалека. Не дав Кулику как следует отдышаться, Ковалев задал ему вопрос:
— Доложите, что с купольным стеклом на складе?
Кулика передернуло. Метнув красноречивый взгляд на Боева, начальник автотракторной службы отряда ответил после небольшой заминки:
— Есть.
— Сколько? — напористо уточнил Ковалев, не оставляя Кулику времени для раздумий.
— В достаточном количестве.
Жесткая, уже знакомая Боеву складка рассекла смуглое лицо Ковалева пополам.
— В достаточном… — повторил вслед за Куликом
Ковалев, будто пробуя чужое слово на вкус. — Тогда почему же, позволительно спросить, офицер, начальник заставы, вынужден действовать, как обыкновенный попрошайка? — вскипел Ковалев. — Почему, я вас спрашиваю.
Кулик пожал плечами:
— У меня он совета не спрашивал. Это его личное дело, добывать стекло на стороне или взять у нас. И вообще, с какой стати я должен оправдываться за чужую самодеятельность? У меня и своих забот…
В его невозмутимости было что-то оскорбительное, глубоко неприятное Ковалеву; откровенная наглость начальника автотракторной службы, граничившая с вызовом, обескураживала. Но внешне, формально предъявить к нему претензии было не за что: Кулик балансировал на опасной грани приличий, предусмотрительно не переступая черты. Поддаваться же предложенной Куликом игре, быть ее участником начальнику отряда не хотелось.
— На Боева не кивайте. Он ответит и за ненужную самодеятельность, и за напрасную инициативу, А вы отвечайте за себя: почему вовремя не обеспечили заставу?
— Майор Боев не обращался ко мне с таким вопросом. Мало ли, у кого и в чем нужда, какие личные просьбы! В памяти всего не удержишь. А ведь существует определенный порядок: и рапорт по команде, и заявка…
У Боева аж глаза полезли на лоб: как это не обращался? Вот это поворотик! Вот это кульбит! Как в хоккее: два ноль, и все в наши ворота…
— Что, вам обязательно нужна персональная просьба? — не выдержал Ковалев. — Или сами не видели, какое положение на заставе? В конце концов, это ваша обязанность — заниматься тем, что определено вашими функциональными обязанностями согласно занимаемой должности, и будьте любезны…
Чувствуя, как его «понесло», Ковалев с усилием остановился — именно в тот момент, когда Кулик вскинул голову, круто выгнул шею и ответил на этот раз дерзко, с вызовом:
— Я должность не выпрашивал. Можете… освобождать. Боев уже давно рвется на мое место! — Сказал, вновь набычил голову, пахнул жарким воздухом, будто паровоз на лихом подъеме, и умолк.
«Вон в чем дело!» — изумился Боев.
Только сейчас он запоздало сообразил, понял со стыдом и недоумением, где крылась причина неприязни к нему Кулика и, признаться, немало этому удивился, потому что даже мысленно, не то что наяву, не примерялся к должности отрядного технаря.
— Потребуется, уж будьте уверены: я смогу обойтись и без вашего согласия, майор Кулик, — довольно спокойно, с иронией произнес начальник отряда. — Полномочия мне на то даны. А чтобы у вас на этот счет не оставалось сомнений, я вам приказываю: немедленно распорядитесь, и сегодня же, вы слышите, сегодня же, лично возвратите стекло в аэропорт. Об исполнении доложить. Все. Свободны.
Дверь за Куликом хлопнула так, будто он отгораживался ею не только от разгневанного Ковалева и побледневшего, тяжело посапывающего Боева, но и от всего мира.
— А вас, майор Боев, попрошу остаться. Мне хотелось бы обсудить с вами, Василий Иванович, еще несколько вопросов. Итак, на чем мы остановились?..
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
8
День переваливал на вторую половину, когда старший научный сотрудник АтлантНИРО Виктор Николаевич Садиков, щурясь на бледное зимнее солнце, вышел из института, беспокойно взглянул на часы. Минут пятнадцать назад он подтвердил по телефону, что готов выступить у солдат с лекцией, и теперь боялся опоздать.
Начальник политотдела отряда загодя прислал за Садиковым кремовую, начищенную до блеска «Волгу», дал в провожатые своего помощника по комсомольской работе, наказав ему везти ученого бережно, не лихача.
Садиков по-детски удивлялся открывавшейся ему новизне дороги, куда прежде въезд ему был заказан: пограничная зона. Ехали умеренно и вроде бы долго, но шофер-ювелир подгадал-таки точно к намеченному сроку, чем и сам был, похоже, доволен.
Уже на заставе, несмотря на уговоры офицеров, Садиков наотрез отказался от традиционной чашки чая, словно в извинение говоря, что солдаты, по-видимому, давно собрались, ждут и он не хотел бы злоупотреблять их личным и без того небогатым временем. За стеклами очков мягким, добродушным светом горели его глаза цвета спелой черной смородины.
Пограничники, и впрямь заранее собранные, уже сидели в ленинской комнате. При появлении гражданского человека в сопровождении начальника заставы, замполита и помощника начальника политотдела по комсомольской работе они мгновенно, как по команде, встали, замерли по стойке «смирно».
— Сидите, сидите, товарищи, — молитвенно воздев ладони кверху, попросил их Садиков, но, к удивлению ученого, его призыв остался без ответа; солдаты заняли свои места лишь после команды Боева. Начальник заставы при этом пробовал улыбкой объяснить Садикову, мол, таков порядок, а тот, не замечая попытки Боева, уже пристально вглядывался в лица слушателей, изумляясь в душе их буйной молодости и пронзительной похожести одного на другого.
Боев тоже ревниво и победоносно обозревал лица своих питомцев. Первый ряд, ближе к лектору, занимали Шарапов, Гвоздев, неразлучный с ним Паршиков и чем-то смущенный, порозовевший Апанасенко. Вытянув шею, Боев словно впервые разглядывал аудиторию, чтобы вовремя подметить в ней какой-нибудь изъян, непорядок или признаки беспокойства. Но и на задних рядах пустых мест не было, и в лицах ясно читался немалый интерес.
Садиков вначале все приноравливался к непривычной для себя обстановке, водил глазами по густо убранным цветными планшетами стенам и неизвестно чему улыбался. Наконец его представили, дали слово, и ученый поднялся, слегка смущаясь вынужденным возвышением над немо замершими слушателями.
— Мне, к сожалению, в свое время не довелось послужить в армии, не позволило здоровье, — начал он тихим приятным голосом. — Но я помню, как в детстве начитывался рассказами о подвигах Карацупы, как манила меня граница и все, что на ней происходит. Однажды я даже привел в дом и начал, к великому неудовольствию мамы, дрессировать настоящую овчарку, которая со временем выросла и превратилась в чистопородную вислоухую дворнягу — увы, чрезвычайно ленивую и совершенно не способную ни к какому учению.
Солдаты отозвались на эти слова дружным смехом, а Садиков, переждав веселье, с грустью договорил:
— Естественно, тогда я еще не мог полагать, что мне, к великому сожалению, не суждено будет ощутить себя военным человеком… — Садиков вздохнул, поправил очки. — Но это, так сказать, к слову, лирическое отступление о прошлом. Теперь вот уже много лет я живу и работаю в приграничной области. Балтика, друзья, удивительный край! — воодушевленно воскликнул он. — Обратимся хотя бы к природе. Тут уживаются южный каштан и трепетная уральская рябина. Тут на равных, как братья, соседствуют краснолистный клен и махровый боярышник, нежная магнолия и пирамидальный дуб. А как великолепен весной тот же платан или древнее дерево гинкго!..
Увлекшись описанием, Садиков даже раскинул руки, словно бережно обнимал ими платан, но тут же, спохватившись, коротко улыбнулся.
— Конечно, я понимаю: сейчас у вас не так уж много свободного времени, чтобы любоваться красотами природы. Но когда-нибудь — пусть не скоро! — вы непременно возвратитесь сюда и как бы заново увидите, по какой восхитительной местности пролегали ваши… м-м, дозорные тропы.
Взгляд его упал на графин с водой, предусмотрительно выставленный для торжественного случая с краю стола. Вода в этом пузатом сосуде, подкрашенная скатертью, розовела, и Садиков, мимоходом дивясь ее неземному цвету, вновь увлеченно продолжал:
— Одних только озер, прудов, ручьев, рек и речушек вокруг столичного города нашего края — больше ста! А сам город можно смело назвать центром науки, машиностроения, морским центром края… Все это восстановлено, реставрировано, отстроено заново уже после войны. — Голос Садикова снизился. — Страшные следы разрушения оставили после себя гитлеровские варвары. Они предали огню не только творения человеческих рук, но безжалостно взорвали, уничтожили все, что служило человеку кровом, что давало ему пищу; захватчики не пощадили даже зверей из зоопарка. Страшно вспоминать, как эти бедные обезумевшие создания носились среди пожарищ и взывали о помощи, когда такой чад и зловоние стояли вокруг! Наш, советский, солдат спасал их, лечил от ран, когда рядом еще продолжались тяжелые бои… Поистине можно сказать, что наш прекрасный край возродился, словно мифическая птица Феникс, из пепла, поднялся, чтобы снова строить, жить, созидать
Садиков мягко, вроде бы застенчиво улыбнулся, полез в карман за платком. Однако рука его замерла на полпути, обмякла.
— Поверьте, говорить об этом нелегко, а думать — горько… Но иногда это необходимо — оглядываться на наше героическое прошлое, сверять с ним сегодняшний день. Извините, я человек не военный, но так, мне кажется, лучше видится то, что нашему народу довелось пережить, чего мы достигли за столь короткий срок…
Ученый перевел дух, выждал, когда уляжется реакция аудитории на его искренние, с болью слова. Поразившая его поначалу похожесть одного солдата на другого теперь буквально за считанные минуты сменилась узнаванием. Вот тот, слева, встречал Садикова у входной двери казармы. В глубине комнаты он различил, выделил из остальных лукаво-добродушный взгляд шофера, доставившего его на заставу. А прямо перед ним сидел слегка неловкий, смущенный пограничник, которого еще прежде начальник заставы окликнул по фамилии — Апанасенко… Привлеченный необычным румянцем Апанасенкова лица, разрисовавшим во всю ширь упрямые хохляцкие скулы, Садиков с этой минуты сосредоточил свой взгляд на нем, смотрел неотрывно, словно лекция предназначалась единственно для этого солдата.
— Да, я хорошо знаю, какое богатство доверила вам охранять Родина. Одно из таких богатств — море, океан, проблемами изучения которых и занимается наш Атлантический институт рыбного хозяйства и океанографии — АтлантНИРО, и Атлантическое отделение Всесоюзного института океанологии Академии наук СССР имени Ширшова. Уверен, — прежней добродушной улыбкой расцветилось его лицо, — мало кому из вас доводилось спускаться на батискафе в глубь океана. Я был там не раз и заверяю: это только сверху, под солнцем, да еще на школьных картах океан голубой…
На слове «голубой» в коридоре, прямо над дверью ленинской комнаты, резко зазуммерило. Пропущенный через мощные динамики сигнал, от которого у непосвященных в жилах стыла кровь, гудел и гудел, не переставая, сообщая тревожную весть, долетевшую сюда с границы.
В комнату не вбежал, а буквально ворвался дежурный; ничуть не церемонясь, не смущаясь присутствием гражданского человека, зычно крикнул с порога:
— Застава, в ружье! Тревога!
Еще не успел он докричать и повернуться к двери, как все пришло в движение. Каким-то чудом не сбивая друг друга в поднявшейся кутерьме, солдаты устремились на выход. Хлопали ножки стульев, грохотали по полу десятки пар ног, даже воздух — и тот, казалось, перемешался, вихрился теплыми клубами, будто от сквозняка.
Изумленно глядя на всю эту суету, на то, как быстро пустела просторная комната, Садиков растерянно моргал и не мог понять, что вокруг происходит. Новая, прежде неведомая жизнь вторгалась, словно яркий театральный эпизод, в оцепеневшее его естество, смущая своим напором и бешеной силой, устремленностью движения вперед.
— Извините, Виктор Николаевич, но лекцию придется прервать до следующего раза. Так некстати… — Боев нахмурил лоб, как бы сочувствуя ученому; однако Садиков видел: другие заботы одолевали сейчас этого немолодого усталого майора с темными разводами под глазами и красными прожилками на белках, — видел и потому, примиряясь с обстоятельствами, не по своей воле покоряясь им, лишь махнул удрученно рукой — к немалому, как было заметно, облегчению Боева.
— Тревожная группа — на выезд! — перекрывая многие голоса и шум в коридоре, вновь прокричал высоким фальцетом дежурный.
— Заслон — строиться! — вторил ему налитой, будто осеннее яблоко, голос замполита Чеботарева — интеллигентного, очень предупредительного офицера, с которым Садиков успел коротко, до лекции, познакомиться, и не просто познакомиться, но и проникнуться к нему безграничным доверием,
— Первое отделение — готово!
— Второе отделение — готово! — опережая друг друга, посыпались доклады командиров отделений, внося тем самым упорядоченность во всеобщую беготню и неразбериху.
Боев успел сказать Садикову, что его проводит к машине и отвезет в город лейтенант, помощник начальника политотдела по комсомольской работе, а сам, тотчас отрешаясь от постороннего, рассеянно попрощался, торопливо уходя по коридору от Садикова — бочком, на выход.
Кажущиеся на первый взгляд беспорядочными суетливая беготня и неразбериха, сопровождаемые лязгом выхватываемого из пирамид оружия, царившие в коридоре и перед крыльцом казармы бестолковость и нервотрепка на самом деле имели свой, особый, отработанный частыми тренировками порядок, смысл которого был открыт и ведом лишь специалистам границы… Боев как раз и принадлежал к тому числу специалистов, которые на слух, как опытные врачи, определяют непорядок, отклонение от нормы. Он замечал малейшее нарушение слаженного ритма, малейшие задержки по времени, и губы его кривились от неудовлетворения, немедленного желания кое-что исправить, дополнить, поставить на свои места.
— Шарапов! — с недоброй хрипотцой окликнул он водителя. — Чего ждете? Машина должна стоять у крыльца уже давно, а вы разминаетесь. Скорее, Паршиков, некогда копаться. Поправьте оружие. Апанасенко, не задерживайтесь! Быстро на выход!
Дежурный сержант уже ввел его в курс дела, сообщив, что в семнадцать часов пятьдесят минут с центра участка заставы поступил сигнал о нарушении границы неподалеку от наблюдательной вышки. Парный наряд, следовавший дозором по левому флангу, вдоль линии границы, был немедленно сориентирован на сработку и, достигнув участка, обнаружил следы, ведущие в наш тыл. Наряд тщательно осмотрел повреждение в сигнализационной системе, произвел положенный осмотр прилегающей местности, а затем, вешками обозначив найденные следы, укрыв их от случайного повреждения, начал преследование.
Нетерпеливо дожидаясь окончания доклада дежурного, начальник заставы взглянул на часы. С момента подачи сигнала едва прошло две минуты, хотя, казалось, времени миновало гораздо больше.
Слепой сумрак подступил к заставе со всех сторон, и в этом зыбком дрожании света, готового превратиться в настоящий ночной мрак, таился зловещий намек на неудачу. Однако люди мало обращали внимания на перерождение природы; их целиком захватило дело. Урча мощным мотором, подрагивал бортовой вездеход, на который поистине с обезьяньей ловкостью садились солдаты заслона. Командовавший ими Чеботарев, в горячке не замечая сбившейся набок фуражки, отдавал последние распоряжения. Каким-то чудом он умудрялся держать под контролем и направлять все остальное, что происходило вокруг.
Из гаража, загородив полнеба округлым шишаком прожектора, доисторическим чудовищем выезжала на всеобщее обозрение апээмка, расчету которой Боев загодя приказал выдвинуться на рубеж прикрытия: зимой темнота наступала мгновенно, и без мощного, всепроникающего света прожекторного луча апээмки в предстоящем поиске было не обойтись.
Тревожная группа, которой отводилась в данном случае особая роль, была вся в сборе, каждый знал свое место, действовал без напоминаний. В темноте кузова, отражая свет лампочки, загадочно и хищно горели агатовые глаза Гая, нутром воспринимавшего общее волнение и азарт и оттого поскуливавшего тонко, с подвывом, как обиженное дитя.
— Вперед! — скомандовал замявшемуся было Паршикову начальник заставы, и когда все определилось, встало наконец на свои места, упорядочилось так, как и должно, он со вздохом облегчения кивнул водителю: — Поехали, Шарапов!
Взвихряя снежную пыль, веером разлетавшуюся по обе стороны обочины, «газик» невесомо летел по недавно расчищенной, вроде бы утопавшей среди отвалов дороге к центру участка, где дозор зафиксировал нарушение границы и обнаружил следы в направлении нашего тыла.
Слева от Боева мелькнуло большое, просторное здание новой котельной, попеременно пронеслись сначала восьмигранная солдатская курилка с засыпанными снегом деревянными лавками, сейчас ненадобными, затем помаячил хилый рукотворный лесок, обещавший вскоре стать чащей, и уж после мелькнул серым бетоном нелепый в глубине участка заставы, считай, на самой границе, указатель дороги со стрелкой, повернутой на город.
Еще недавно разбавленная желтым электрическим светом вблизи казармы, колеблющаяся темнота подступила вплотную, и если бы не снег, белизной отторгавший от себя раннюю зимнюю мглу, да не добротно расчищенная дорога, да не раскосые лучи фар машины, то можно было бы затеряться в этом холодном пространстве и сбиться с пути, пропасть, как бесследно пропадают в тайге или унылой тундре… Но опытный Шарапов без подсказки знал, куда надо ехать, почти вслепую, на память крутил и крутил баранку, держа в узком дорожном коридоре снега возможно предельную скорость, на которую, было заметно, молча хмурился Боев.
Пока ехали, начальник заставы прикидывал наиболее рациональную расстановку сил. Мысленно, во всех деталях он «проигрывал» в воображении возможный ход поиска, заранее нащупывая в нем слабые места, куда, в случае непредвиденных обстоятельств, хлынет, будто в прорву, мутный поток ошибок и промахов.
За тыловые подступы к границе он был абсолютно спокоен: там в заслоне действовал грамотный офицер Чеботарев с приданным ему подвижным постом наблюдения, а уж за Чеботарева начальник заставы мог ручаться, как за самого себя: лейтенант, даром что избрал в училище политпрофиль, обладал неплохой технической сметкой, при надобности вполне мог заменить начальника заставы. К тому же не первый день работали вместе и хотя бы в силу этого обстоятельства научились понимать друг друга с полуслова.
Озабоченность Боева, как и прежде, вызывало прикрытие границы по рубежу, собственно поиск и преследование нарушителя — альфы и омеги всей службы пограничника. Как ни странно, меньше всего ему думалось сейчас о наиболее опасной стороне пограничного поиска — задержании нарушителя, возможный исход которого никто никогда не может предугадать или предвидеть заранее.
«Должно быть, Чеботарев уже на месте», — предполагал Боев в уверенности, что солдаты заслона вышли на означенный рубеж и, растворясь в окружавшей их природе, как бы потерявшись в ней, залегли чуткими нарядами, готовыми в любой миг подняться из снежного мрака навстречу пришельцу и начать действовать.
Однако до самих решительных действий было еще далеко, и Боев вовсе перестал о них думать, целиком сосредоточась на текущем моменте, на той обстановке, которая складывалась в данное время.
— Запросите наряд: пусть доложат обстановку, — велел Боев радисту тревожной группы, и пока в эфире шел обоюдный обмен условными данными, уточнялись специфические детали, Боев на мгновение закрыл глаза.
Из мимолетного этого оцепенения, дающего краткий отдых скованному напряжением телу, особенно глазам, его вывело неприятное сообщение от наряда, ведущего преследование нарушителя.
— След потерян! — доложил старший наряда в некотором замешательстве.
— Доложите подробней! — потребовал Боев.
По ходу доклада перед начальником заставы вырисовывалась такая картина. Сойдя с контрольной лыжни в месте обнаружения следов, наряд устремился в преследование, благо глубокие вмятины следов были видны отчетливо. Довольно широкие солдатские лыжи увязали в рыхлом нетронутом снегу, тонули в нем, мешая быстрому продвижению. Нарушитель же двигался на широких плетеных «снегоступах», заметно опережая пограничников, потому что даже не затвердевший как следует наст выдерживал его вес хорошо. Рифленые отпечатки «снегоступов» довели пограничников до опушки и тут внезапно пропали, словно прежде их не было вовсе. Мистика, и только!
Боев выяснил у наряда точное его местонахождение и, выбрав кратчайшую прямую, сокращавшую первоначальное расстояние чуть ли не второе, в нужном, по его расчетам, месте приказал тревожной группе высаживаться.
Двигаясь по целику, солдаты на одном дыхании преодолели первые десятки метров, словно летели по воздуху. Подсвеченный фонариком нетронутый снег посверкивал магниевыми вспышками, сухо шуршал под ногами, напоминая шелест камышей или травы, непрестанно колеблемой ветром.
Наряд встретил тревожную группу у края опушки, где обрезанной толстой ниткой выделялась в свете многих фонарей цепочка потерянного следа.
Боев разрешил наряду убыть к месту несения службы: они свое дело сделали, и потребность в них сейчас отпала. Сам осмотрел сосну, в которую утыкался последний отпечаток, высветил лучом раскидистую крону, вспыхнувшую на свету негорючим изумрудным огнем.
«Что за черт?» — удивленно спросил себя Боев, искренне недоумевая, куда же, в самом деле, мог деться нарушитель. Теперь ему стало понятно, почему столь растерянно докладывал старший наряда о происшедшем.
— Собаку на след! — больше по привычке, чем из надобности, приказал он инструктору, и пока Гай цепко втягивал в себя почти лишенный запахов зимний воздух, никто, соблюдая инструкцию, не тронулся с места.
Утопая в снегу почти по грудь, Гай через какое-то время уверенно ринулся вперед, отчетливо забирая вправо, к дороге, по которой только что, всего несколько минут назад промчался «газик» с тревожной группой.
— Немедленно вызывайте апээмку навстречу, — отдал Боев распоряжение радисту, сам слегка подрагивая всем телом от радостного предчувствия, что почти разгадал предложенную нарушителем головоломку и принял верное решение, наверняка гарантировавшее успех.
Не успевшая удалиться слишком далеко, едва занявшая тот рубеж, на который и указал прожекторному расчету лейтенант Чеботарев, машина тотчас сорвалась с места, взметывая укатанный снежный наст, завихляла тяжелым кузовом с аппаратурой по длинному, плавно изгибавшемуся дорожному «языку».
А поиск шел своим чередом. Старший тревожной группы младший сержант Гвоздев азартно лавировал между деревьями, едва поспевая за ушедшим вперед инструктором с собакой. Следом, двигаясь по пробитой тропе, спешили Апанасенко и Паршиков, оба дышали натужно, на весь лес, и плотно прижимали к себе автоматы, чтобы ненароком не цеплять ими за ветки.
— Быстрей, быстрей, — подгонял Боев, сам словно не ощущая ни усталости, от которой и у молодых, физически крепких солдат подкашивались ноги, ни своих лет.
Тревога все убыстряла и убыстряла темп преследования, доводя его почти до невозможного, когда от предельно быстрого бега становится нечем дышать и сердце, не выдерживая нагрузки, готово остановиться.
Шли по наиболее вероятному направлению движения нарушителя, и двигали ими не только уверенность в правильности избранного пути, но и сам горячечный, бешеный темп погони… Да и Гай — барометр общего настроения, их опора и надежда в данный момент — ни разу не сбился с ведомого ему одному пути, тянул ровно и ходко, будто хороший стайер на долгом и трудном маршруте.
Как бы в награду за предельное напряжение солдат, за их заметно убывающие силы следы вскоре возобновились. Начало они брали у подножия толстого кряжа, в бурной осыпи свежих хвойных игл, устилавших снег.
«Верхом шел, по деревьям! — изумился Боев. — Ловок, черт, ничего не скажешь! Хорошо придумал».
Однако и времени, прикидывал Боев, нарушитель потерял тоже много: не очень-то побегаешь, перебрасывая веревку с «кошкой» с дерева на дерево, с сучка на сучок.
Вдали, от заставы, наполняя лес все нараставшим гудением, таким чуждым и странным в тишине, на пограничников накатывался хорошо знакомый звук мотора тяжелой апээмки, ведомой Сапрыкиным; стремительное приближение машины тоже сулило близкую развязку, завершение поиска.
Дело теперь уже оставалось за малым — обнаружить и обезвредить нарушителя границы, зажав его со всех сторон и отрезав пути к отходу.
— Вот он, вижу! — первым воскликнул Гвоздев.
Младший сержант на бегу указывал Боеву и остальным куда-то в глубину непроницаемо-молочного сумрака, затопившего все вокруг, скравшего простроченную деревьями даль. Однако сколько ни вглядывались, никто ничего не видел.
Гай буквально душился на поводке, рвался из рук инструктора. Безусловно, он раньше пограничников уловил близкое присутствие чужака, запах которого он своим непостижимым чутьем мог распознать и среди десятка, даже сотни похожих и при этом не ошибиться.
— Стой! — вдруг приказал тревожной группе Боев. Команда прозвучала в тот самый момент, когда
увлеченных преследованием пограничников, казалось, ничто на свете не способно было удержать на месте. Но солдаты, отзываясь на знакомый голос, отдавший четкую команду, беспрекословно подчинились.
— Всем за деревья и без моей команды не выходить!
Солдаты не знали, даже не догадывались в те горячие мгновения, что всякое повидавший на своем веку за долгую службу на границе начальник заставы сейчас хотел уберечь их, молодых, только-только начинающих жить, от глупой, случайной, шальной пули, ибо никто сейчас не мог наверняка сказать, вооружен нарушитель или нет.
— Расчету АПМ, — передал Боев через радиста, — дать луч! — И мгновение спустя, когда расчет изготовился к работе, добавил: — Осветить цель!
Пронзительно-слепящий белый луч прожектора ударил сквозь малые кусты и деревья, пал, будто огромный карающий меч, с неба, высветил нарушителя, одетого во все белое, вынудил его в замешательстве остановиться.
По доброй традиции, издавна укрепившейся на границе, Боев передал исключительное право тому, кто первым обнаружил врага:
— Младший сержант Гвоздев, производите задержание! Апанасенко прикрывает слева, Паршиков справа. Вперед!
Держа автомат наготове, Гвоздев сделал к нарушителю, облитому нестерпимым светом, первый шаг. Он шел и чувствовал, как справа от него скользил по снегу цепкий, ухватистый пограничник первого года службы Паршиков, как слева, не давая нарушителю возможности скрыться или применить оружие, двигался Апанасенко, и на душе Гвоздева в эти минуты было сурово и торжественно.
— Руки! — скомандовал Гвоздев пришельцу. — Оружие бросить. Три шага в сторону. Апанасенко, обыщите задержанного.
Но в ту самую минуту, когда Апанасенко готов был выполнить приказ, нарушитель мгновенным гигантским прыжком метнулся в сторону, пробежал десяток шагов, намереваясь выйти из губительной для него полосы света.
— Держать луч! — приказал Боев расчету АПМ. Пока инструктор торопливо, ломая ногти, отстегивал
карабин на ошейнике собаки, намереваясь пустить Гая в погоню, Апанасенко сам, не дожидаясь команды, бросился нарушителю наперерез. Он едва не плыл по глубокому снегу, но не отставал от нарушителя ни на шаг, и Боев с тревогой наблюдал за этим стремительным бегом: хватит ли у Апанасенко сил, не подведет ли в критический момент слабое здоровье солдата?
Гай уже пластал широким наметом по сугробам, уже близок был к цели, когда Апанасенко в прыжке настиг нарушителя, сбил его с ног и крепко припечатал лицом в снег.
Боев облегченно вздохнул, вытер набежавший из-под шапки пот и посмотрел на часы. Сверкнувшие при свете луча стрелки показывали ровно восемнадцать ноль-ноль. Всего восемь минут прошло с момента объявления тревоги, которые и для него, и для подчиненных ему солдат показались растянутыми чуть ли не в вечность. Но ради этих восьми скоротечных минут стоило без устали работать и бороться за право считать себя человеком, стоило жить в этом огромном и сложном мире, защищать свою Родину, как защищают мать.
— Луч погасить… — расслабленным голосом передал Боев радисту. — Всем — ко мне.
Солдаты с любопытством разглядывали нарушителя, его диковинный белый костюм на «молниях», мало что выражавшее лицо.
— Товарищ майор! — вдруг заволновался Гвоздев. — Товарищ майор! Это мотоциклист. Помните, осенью?
— Разберемся, Гвоздев. Теперь уже разберемся.
— Точно, это он, я его сразу узнал, как увидел. Я его лицо на всю жизнь запомнил, товарищ майор…
— По машинам! — раздалось в заснеженном лесу. — Давайте, Шарапов, на заставу. Людям пора отдыхать.
Уже в канцелярии Боев ненадолго закрыл глаза. Только сейчас он почувствовал, как устал за последние дни, как ему необходимо просто выспаться, отойти, хоть ненадолго, от всех заставских дел.
«Хорошо бы на день-другой съездить в город, побродить по новым кварталам. Вон как быстро строится, не уследишь… Или взять с собой Трофимова да махнуть куда-нибудь на рыбалку! А еще хорошо бы попасть в Музей янтаря, не был там уже тысячу лет, да…»
Он открыл глаза, позвал замполита:
— Чеботарев, а, Чеботарев! Как бы сейчас чайку? Нашего, пограничного, в деготь. А, не против? Ну, когда бы ты был против такого деликатеса? Чай — он нервы успокаивает, опять же глаза после чая видят лучше и вовсе не тянет курить. Дежурный! — позвал он. — Дежурный, говорю, куда вы запропастились? Принесите-ка нам с замполитом чаю… И масла бы неплохо, с черненьким хлебушком. Поняли, нет? Вот так. Самое время нам с тобой, Чеботарев, подкрепиться. Чувствую, еще тот будет с задержанным разговор. Ох, и не люблю я эту казуистику: допрашивай, сверяй, записывай, а он врет, врет, врет… Ладно, мы тоже не лыком шиты. Верно?
…Освободились они с Чеботаревым только к утру. Завидев сочившийся в окна слабый свет, Боев оторвал на подставке листок календаря, повертел его в руках.
— Ба, Чеботарев, ты гляди! Оказывается, сегодня была самая длинная ночь в году! Во время летит…
Сам подумал: «Скоро и Новый год. Надо бы заранее попросить лесничество, пусть привезут на заставу елку. Солдаты ее нарядят, наши жены испекут пирогов, глядишь, ребята попразднуют, вроде как дома побывают…»
День переваливал на вторую половину, когда старший научный сотрудник АтлантНИРО Виктор Николаевич Садиков, щурясь на бледное зимнее солнце, вышел из института, беспокойно взглянул на часы. Минут пятнадцать назад он подтвердил по телефону, что готов выступить у солдат с лекцией, и теперь боялся опоздать.
Начальник политотдела отряда загодя прислал за Садиковым кремовую, начищенную до блеска «Волгу», дал в провожатые своего помощника по комсомольской работе, наказав ему везти ученого бережно, не лихача.
Садиков по-детски удивлялся открывавшейся ему новизне дороги, куда прежде въезд ему был заказан: пограничная зона. Ехали умеренно и вроде бы долго, но шофер-ювелир подгадал-таки точно к намеченному сроку, чем и сам был, похоже, доволен.
Уже на заставе, несмотря на уговоры офицеров, Садиков наотрез отказался от традиционной чашки чая, словно в извинение говоря, что солдаты, по-видимому, давно собрались, ждут и он не хотел бы злоупотреблять их личным и без того небогатым временем. За стеклами очков мягким, добродушным светом горели его глаза цвета спелой черной смородины.
Пограничники, и впрямь заранее собранные, уже сидели в ленинской комнате. При появлении гражданского человека в сопровождении начальника заставы, замполита и помощника начальника политотдела по комсомольской работе они мгновенно, как по команде, встали, замерли по стойке «смирно».
— Сидите, сидите, товарищи, — молитвенно воздев ладони кверху, попросил их Садиков, но, к удивлению ученого, его призыв остался без ответа; солдаты заняли свои места лишь после команды Боева. Начальник заставы при этом пробовал улыбкой объяснить Садикову, мол, таков порядок, а тот, не замечая попытки Боева, уже пристально вглядывался в лица слушателей, изумляясь в душе их буйной молодости и пронзительной похожести одного на другого.
Боев тоже ревниво и победоносно обозревал лица своих питомцев. Первый ряд, ближе к лектору, занимали Шарапов, Гвоздев, неразлучный с ним Паршиков и чем-то смущенный, порозовевший Апанасенко. Вытянув шею, Боев словно впервые разглядывал аудиторию, чтобы вовремя подметить в ней какой-нибудь изъян, непорядок или признаки беспокойства. Но и на задних рядах пустых мест не было, и в лицах ясно читался немалый интерес.
Садиков вначале все приноравливался к непривычной для себя обстановке, водил глазами по густо убранным цветными планшетами стенам и неизвестно чему улыбался. Наконец его представили, дали слово, и ученый поднялся, слегка смущаясь вынужденным возвышением над немо замершими слушателями.
— Мне, к сожалению, в свое время не довелось послужить в армии, не позволило здоровье, — начал он тихим приятным голосом. — Но я помню, как в детстве начитывался рассказами о подвигах Карацупы, как манила меня граница и все, что на ней происходит. Однажды я даже привел в дом и начал, к великому неудовольствию мамы, дрессировать настоящую овчарку, которая со временем выросла и превратилась в чистопородную вислоухую дворнягу — увы, чрезвычайно ленивую и совершенно не способную ни к какому учению.
Солдаты отозвались на эти слова дружным смехом, а Садиков, переждав веселье, с грустью договорил:
— Естественно, тогда я еще не мог полагать, что мне, к великому сожалению, не суждено будет ощутить себя военным человеком… — Садиков вздохнул, поправил очки. — Но это, так сказать, к слову, лирическое отступление о прошлом. Теперь вот уже много лет я живу и работаю в приграничной области. Балтика, друзья, удивительный край! — воодушевленно воскликнул он. — Обратимся хотя бы к природе. Тут уживаются южный каштан и трепетная уральская рябина. Тут на равных, как братья, соседствуют краснолистный клен и махровый боярышник, нежная магнолия и пирамидальный дуб. А как великолепен весной тот же платан или древнее дерево гинкго!..
Увлекшись описанием, Садиков даже раскинул руки, словно бережно обнимал ими платан, но тут же, спохватившись, коротко улыбнулся.
— Конечно, я понимаю: сейчас у вас не так уж много свободного времени, чтобы любоваться красотами природы. Но когда-нибудь — пусть не скоро! — вы непременно возвратитесь сюда и как бы заново увидите, по какой восхитительной местности пролегали ваши… м-м, дозорные тропы.
Взгляд его упал на графин с водой, предусмотрительно выставленный для торжественного случая с краю стола. Вода в этом пузатом сосуде, подкрашенная скатертью, розовела, и Садиков, мимоходом дивясь ее неземному цвету, вновь увлеченно продолжал:
— Одних только озер, прудов, ручьев, рек и речушек вокруг столичного города нашего края — больше ста! А сам город можно смело назвать центром науки, машиностроения, морским центром края… Все это восстановлено, реставрировано, отстроено заново уже после войны. — Голос Садикова снизился. — Страшные следы разрушения оставили после себя гитлеровские варвары. Они предали огню не только творения человеческих рук, но безжалостно взорвали, уничтожили все, что служило человеку кровом, что давало ему пищу; захватчики не пощадили даже зверей из зоопарка. Страшно вспоминать, как эти бедные обезумевшие создания носились среди пожарищ и взывали о помощи, когда такой чад и зловоние стояли вокруг! Наш, советский, солдат спасал их, лечил от ран, когда рядом еще продолжались тяжелые бои… Поистине можно сказать, что наш прекрасный край возродился, словно мифическая птица Феникс, из пепла, поднялся, чтобы снова строить, жить, созидать
Садиков мягко, вроде бы застенчиво улыбнулся, полез в карман за платком. Однако рука его замерла на полпути, обмякла.
— Поверьте, говорить об этом нелегко, а думать — горько… Но иногда это необходимо — оглядываться на наше героическое прошлое, сверять с ним сегодняшний день. Извините, я человек не военный, но так, мне кажется, лучше видится то, что нашему народу довелось пережить, чего мы достигли за столь короткий срок…
Ученый перевел дух, выждал, когда уляжется реакция аудитории на его искренние, с болью слова. Поразившая его поначалу похожесть одного солдата на другого теперь буквально за считанные минуты сменилась узнаванием. Вот тот, слева, встречал Садикова у входной двери казармы. В глубине комнаты он различил, выделил из остальных лукаво-добродушный взгляд шофера, доставившего его на заставу. А прямо перед ним сидел слегка неловкий, смущенный пограничник, которого еще прежде начальник заставы окликнул по фамилии — Апанасенко… Привлеченный необычным румянцем Апанасенкова лица, разрисовавшим во всю ширь упрямые хохляцкие скулы, Садиков с этой минуты сосредоточил свой взгляд на нем, смотрел неотрывно, словно лекция предназначалась единственно для этого солдата.
— Да, я хорошо знаю, какое богатство доверила вам охранять Родина. Одно из таких богатств — море, океан, проблемами изучения которых и занимается наш Атлантический институт рыбного хозяйства и океанографии — АтлантНИРО, и Атлантическое отделение Всесоюзного института океанологии Академии наук СССР имени Ширшова. Уверен, — прежней добродушной улыбкой расцветилось его лицо, — мало кому из вас доводилось спускаться на батискафе в глубь океана. Я был там не раз и заверяю: это только сверху, под солнцем, да еще на школьных картах океан голубой…
На слове «голубой» в коридоре, прямо над дверью ленинской комнаты, резко зазуммерило. Пропущенный через мощные динамики сигнал, от которого у непосвященных в жилах стыла кровь, гудел и гудел, не переставая, сообщая тревожную весть, долетевшую сюда с границы.
В комнату не вбежал, а буквально ворвался дежурный; ничуть не церемонясь, не смущаясь присутствием гражданского человека, зычно крикнул с порога:
— Застава, в ружье! Тревога!
Еще не успел он докричать и повернуться к двери, как все пришло в движение. Каким-то чудом не сбивая друг друга в поднявшейся кутерьме, солдаты устремились на выход. Хлопали ножки стульев, грохотали по полу десятки пар ног, даже воздух — и тот, казалось, перемешался, вихрился теплыми клубами, будто от сквозняка.
Изумленно глядя на всю эту суету, на то, как быстро пустела просторная комната, Садиков растерянно моргал и не мог понять, что вокруг происходит. Новая, прежде неведомая жизнь вторгалась, словно яркий театральный эпизод, в оцепеневшее его естество, смущая своим напором и бешеной силой, устремленностью движения вперед.
— Извините, Виктор Николаевич, но лекцию придется прервать до следующего раза. Так некстати… — Боев нахмурил лоб, как бы сочувствуя ученому; однако Садиков видел: другие заботы одолевали сейчас этого немолодого усталого майора с темными разводами под глазами и красными прожилками на белках, — видел и потому, примиряясь с обстоятельствами, не по своей воле покоряясь им, лишь махнул удрученно рукой — к немалому, как было заметно, облегчению Боева.
— Тревожная группа — на выезд! — перекрывая многие голоса и шум в коридоре, вновь прокричал высоким фальцетом дежурный.
— Заслон — строиться! — вторил ему налитой, будто осеннее яблоко, голос замполита Чеботарева — интеллигентного, очень предупредительного офицера, с которым Садиков успел коротко, до лекции, познакомиться, и не просто познакомиться, но и проникнуться к нему безграничным доверием,
— Первое отделение — готово!
— Второе отделение — готово! — опережая друг друга, посыпались доклады командиров отделений, внося тем самым упорядоченность во всеобщую беготню и неразбериху.
Боев успел сказать Садикову, что его проводит к машине и отвезет в город лейтенант, помощник начальника политотдела по комсомольской работе, а сам, тотчас отрешаясь от постороннего, рассеянно попрощался, торопливо уходя по коридору от Садикова — бочком, на выход.
Кажущиеся на первый взгляд беспорядочными суетливая беготня и неразбериха, сопровождаемые лязгом выхватываемого из пирамид оружия, царившие в коридоре и перед крыльцом казармы бестолковость и нервотрепка на самом деле имели свой, особый, отработанный частыми тренировками порядок, смысл которого был открыт и ведом лишь специалистам границы… Боев как раз и принадлежал к тому числу специалистов, которые на слух, как опытные врачи, определяют непорядок, отклонение от нормы. Он замечал малейшее нарушение слаженного ритма, малейшие задержки по времени, и губы его кривились от неудовлетворения, немедленного желания кое-что исправить, дополнить, поставить на свои места.
— Шарапов! — с недоброй хрипотцой окликнул он водителя. — Чего ждете? Машина должна стоять у крыльца уже давно, а вы разминаетесь. Скорее, Паршиков, некогда копаться. Поправьте оружие. Апанасенко, не задерживайтесь! Быстро на выход!
Дежурный сержант уже ввел его в курс дела, сообщив, что в семнадцать часов пятьдесят минут с центра участка заставы поступил сигнал о нарушении границы неподалеку от наблюдательной вышки. Парный наряд, следовавший дозором по левому флангу, вдоль линии границы, был немедленно сориентирован на сработку и, достигнув участка, обнаружил следы, ведущие в наш тыл. Наряд тщательно осмотрел повреждение в сигнализационной системе, произвел положенный осмотр прилегающей местности, а затем, вешками обозначив найденные следы, укрыв их от случайного повреждения, начал преследование.
Нетерпеливо дожидаясь окончания доклада дежурного, начальник заставы взглянул на часы. С момента подачи сигнала едва прошло две минуты, хотя, казалось, времени миновало гораздо больше.
Слепой сумрак подступил к заставе со всех сторон, и в этом зыбком дрожании света, готового превратиться в настоящий ночной мрак, таился зловещий намек на неудачу. Однако люди мало обращали внимания на перерождение природы; их целиком захватило дело. Урча мощным мотором, подрагивал бортовой вездеход, на который поистине с обезьяньей ловкостью садились солдаты заслона. Командовавший ими Чеботарев, в горячке не замечая сбившейся набок фуражки, отдавал последние распоряжения. Каким-то чудом он умудрялся держать под контролем и направлять все остальное, что происходило вокруг.
Из гаража, загородив полнеба округлым шишаком прожектора, доисторическим чудовищем выезжала на всеобщее обозрение апээмка, расчету которой Боев загодя приказал выдвинуться на рубеж прикрытия: зимой темнота наступала мгновенно, и без мощного, всепроникающего света прожекторного луча апээмки в предстоящем поиске было не обойтись.
Тревожная группа, которой отводилась в данном случае особая роль, была вся в сборе, каждый знал свое место, действовал без напоминаний. В темноте кузова, отражая свет лампочки, загадочно и хищно горели агатовые глаза Гая, нутром воспринимавшего общее волнение и азарт и оттого поскуливавшего тонко, с подвывом, как обиженное дитя.
— Вперед! — скомандовал замявшемуся было Паршикову начальник заставы, и когда все определилось, встало наконец на свои места, упорядочилось так, как и должно, он со вздохом облегчения кивнул водителю: — Поехали, Шарапов!
Взвихряя снежную пыль, веером разлетавшуюся по обе стороны обочины, «газик» невесомо летел по недавно расчищенной, вроде бы утопавшей среди отвалов дороге к центру участка, где дозор зафиксировал нарушение границы и обнаружил следы в направлении нашего тыла.
Слева от Боева мелькнуло большое, просторное здание новой котельной, попеременно пронеслись сначала восьмигранная солдатская курилка с засыпанными снегом деревянными лавками, сейчас ненадобными, затем помаячил хилый рукотворный лесок, обещавший вскоре стать чащей, и уж после мелькнул серым бетоном нелепый в глубине участка заставы, считай, на самой границе, указатель дороги со стрелкой, повернутой на город.
Еще недавно разбавленная желтым электрическим светом вблизи казармы, колеблющаяся темнота подступила вплотную, и если бы не снег, белизной отторгавший от себя раннюю зимнюю мглу, да не добротно расчищенная дорога, да не раскосые лучи фар машины, то можно было бы затеряться в этом холодном пространстве и сбиться с пути, пропасть, как бесследно пропадают в тайге или унылой тундре… Но опытный Шарапов без подсказки знал, куда надо ехать, почти вслепую, на память крутил и крутил баранку, держа в узком дорожном коридоре снега возможно предельную скорость, на которую, было заметно, молча хмурился Боев.
Пока ехали, начальник заставы прикидывал наиболее рациональную расстановку сил. Мысленно, во всех деталях он «проигрывал» в воображении возможный ход поиска, заранее нащупывая в нем слабые места, куда, в случае непредвиденных обстоятельств, хлынет, будто в прорву, мутный поток ошибок и промахов.
За тыловые подступы к границе он был абсолютно спокоен: там в заслоне действовал грамотный офицер Чеботарев с приданным ему подвижным постом наблюдения, а уж за Чеботарева начальник заставы мог ручаться, как за самого себя: лейтенант, даром что избрал в училище политпрофиль, обладал неплохой технической сметкой, при надобности вполне мог заменить начальника заставы. К тому же не первый день работали вместе и хотя бы в силу этого обстоятельства научились понимать друг друга с полуслова.
Озабоченность Боева, как и прежде, вызывало прикрытие границы по рубежу, собственно поиск и преследование нарушителя — альфы и омеги всей службы пограничника. Как ни странно, меньше всего ему думалось сейчас о наиболее опасной стороне пограничного поиска — задержании нарушителя, возможный исход которого никто никогда не может предугадать или предвидеть заранее.
«Должно быть, Чеботарев уже на месте», — предполагал Боев в уверенности, что солдаты заслона вышли на означенный рубеж и, растворясь в окружавшей их природе, как бы потерявшись в ней, залегли чуткими нарядами, готовыми в любой миг подняться из снежного мрака навстречу пришельцу и начать действовать.
Однако до самих решительных действий было еще далеко, и Боев вовсе перестал о них думать, целиком сосредоточась на текущем моменте, на той обстановке, которая складывалась в данное время.
— Запросите наряд: пусть доложат обстановку, — велел Боев радисту тревожной группы, и пока в эфире шел обоюдный обмен условными данными, уточнялись специфические детали, Боев на мгновение закрыл глаза.
Из мимолетного этого оцепенения, дающего краткий отдых скованному напряжением телу, особенно глазам, его вывело неприятное сообщение от наряда, ведущего преследование нарушителя.
— След потерян! — доложил старший наряда в некотором замешательстве.
— Доложите подробней! — потребовал Боев.
По ходу доклада перед начальником заставы вырисовывалась такая картина. Сойдя с контрольной лыжни в месте обнаружения следов, наряд устремился в преследование, благо глубокие вмятины следов были видны отчетливо. Довольно широкие солдатские лыжи увязали в рыхлом нетронутом снегу, тонули в нем, мешая быстрому продвижению. Нарушитель же двигался на широких плетеных «снегоступах», заметно опережая пограничников, потому что даже не затвердевший как следует наст выдерживал его вес хорошо. Рифленые отпечатки «снегоступов» довели пограничников до опушки и тут внезапно пропали, словно прежде их не было вовсе. Мистика, и только!
Боев выяснил у наряда точное его местонахождение и, выбрав кратчайшую прямую, сокращавшую первоначальное расстояние чуть ли не второе, в нужном, по его расчетам, месте приказал тревожной группе высаживаться.
Двигаясь по целику, солдаты на одном дыхании преодолели первые десятки метров, словно летели по воздуху. Подсвеченный фонариком нетронутый снег посверкивал магниевыми вспышками, сухо шуршал под ногами, напоминая шелест камышей или травы, непрестанно колеблемой ветром.
Наряд встретил тревожную группу у края опушки, где обрезанной толстой ниткой выделялась в свете многих фонарей цепочка потерянного следа.
Боев разрешил наряду убыть к месту несения службы: они свое дело сделали, и потребность в них сейчас отпала. Сам осмотрел сосну, в которую утыкался последний отпечаток, высветил лучом раскидистую крону, вспыхнувшую на свету негорючим изумрудным огнем.
«Что за черт?» — удивленно спросил себя Боев, искренне недоумевая, куда же, в самом деле, мог деться нарушитель. Теперь ему стало понятно, почему столь растерянно докладывал старший наряда о происшедшем.
— Собаку на след! — больше по привычке, чем из надобности, приказал он инструктору, и пока Гай цепко втягивал в себя почти лишенный запахов зимний воздух, никто, соблюдая инструкцию, не тронулся с места.
Утопая в снегу почти по грудь, Гай через какое-то время уверенно ринулся вперед, отчетливо забирая вправо, к дороге, по которой только что, всего несколько минут назад промчался «газик» с тревожной группой.
— Немедленно вызывайте апээмку навстречу, — отдал Боев распоряжение радисту, сам слегка подрагивая всем телом от радостного предчувствия, что почти разгадал предложенную нарушителем головоломку и принял верное решение, наверняка гарантировавшее успех.
Не успевшая удалиться слишком далеко, едва занявшая тот рубеж, на который и указал прожекторному расчету лейтенант Чеботарев, машина тотчас сорвалась с места, взметывая укатанный снежный наст, завихляла тяжелым кузовом с аппаратурой по длинному, плавно изгибавшемуся дорожному «языку».
А поиск шел своим чередом. Старший тревожной группы младший сержант Гвоздев азартно лавировал между деревьями, едва поспевая за ушедшим вперед инструктором с собакой. Следом, двигаясь по пробитой тропе, спешили Апанасенко и Паршиков, оба дышали натужно, на весь лес, и плотно прижимали к себе автоматы, чтобы ненароком не цеплять ими за ветки.
— Быстрей, быстрей, — подгонял Боев, сам словно не ощущая ни усталости, от которой и у молодых, физически крепких солдат подкашивались ноги, ни своих лет.
Тревога все убыстряла и убыстряла темп преследования, доводя его почти до невозможного, когда от предельно быстрого бега становится нечем дышать и сердце, не выдерживая нагрузки, готово остановиться.
Шли по наиболее вероятному направлению движения нарушителя, и двигали ими не только уверенность в правильности избранного пути, но и сам горячечный, бешеный темп погони… Да и Гай — барометр общего настроения, их опора и надежда в данный момент — ни разу не сбился с ведомого ему одному пути, тянул ровно и ходко, будто хороший стайер на долгом и трудном маршруте.
Как бы в награду за предельное напряжение солдат, за их заметно убывающие силы следы вскоре возобновились. Начало они брали у подножия толстого кряжа, в бурной осыпи свежих хвойных игл, устилавших снег.
«Верхом шел, по деревьям! — изумился Боев. — Ловок, черт, ничего не скажешь! Хорошо придумал».
Однако и времени, прикидывал Боев, нарушитель потерял тоже много: не очень-то побегаешь, перебрасывая веревку с «кошкой» с дерева на дерево, с сучка на сучок.
Вдали, от заставы, наполняя лес все нараставшим гудением, таким чуждым и странным в тишине, на пограничников накатывался хорошо знакомый звук мотора тяжелой апээмки, ведомой Сапрыкиным; стремительное приближение машины тоже сулило близкую развязку, завершение поиска.
Дело теперь уже оставалось за малым — обнаружить и обезвредить нарушителя границы, зажав его со всех сторон и отрезав пути к отходу.
— Вот он, вижу! — первым воскликнул Гвоздев.
Младший сержант на бегу указывал Боеву и остальным куда-то в глубину непроницаемо-молочного сумрака, затопившего все вокруг, скравшего простроченную деревьями даль. Однако сколько ни вглядывались, никто ничего не видел.
Гай буквально душился на поводке, рвался из рук инструктора. Безусловно, он раньше пограничников уловил близкое присутствие чужака, запах которого он своим непостижимым чутьем мог распознать и среди десятка, даже сотни похожих и при этом не ошибиться.
— Стой! — вдруг приказал тревожной группе Боев. Команда прозвучала в тот самый момент, когда
увлеченных преследованием пограничников, казалось, ничто на свете не способно было удержать на месте. Но солдаты, отзываясь на знакомый голос, отдавший четкую команду, беспрекословно подчинились.
— Всем за деревья и без моей команды не выходить!
Солдаты не знали, даже не догадывались в те горячие мгновения, что всякое повидавший на своем веку за долгую службу на границе начальник заставы сейчас хотел уберечь их, молодых, только-только начинающих жить, от глупой, случайной, шальной пули, ибо никто сейчас не мог наверняка сказать, вооружен нарушитель или нет.
— Расчету АПМ, — передал Боев через радиста, — дать луч! — И мгновение спустя, когда расчет изготовился к работе, добавил: — Осветить цель!
Пронзительно-слепящий белый луч прожектора ударил сквозь малые кусты и деревья, пал, будто огромный карающий меч, с неба, высветил нарушителя, одетого во все белое, вынудил его в замешательстве остановиться.
По доброй традиции, издавна укрепившейся на границе, Боев передал исключительное право тому, кто первым обнаружил врага:
— Младший сержант Гвоздев, производите задержание! Апанасенко прикрывает слева, Паршиков справа. Вперед!
Держа автомат наготове, Гвоздев сделал к нарушителю, облитому нестерпимым светом, первый шаг. Он шел и чувствовал, как справа от него скользил по снегу цепкий, ухватистый пограничник первого года службы Паршиков, как слева, не давая нарушителю возможности скрыться или применить оружие, двигался Апанасенко, и на душе Гвоздева в эти минуты было сурово и торжественно.
— Руки! — скомандовал Гвоздев пришельцу. — Оружие бросить. Три шага в сторону. Апанасенко, обыщите задержанного.
Но в ту самую минуту, когда Апанасенко готов был выполнить приказ, нарушитель мгновенным гигантским прыжком метнулся в сторону, пробежал десяток шагов, намереваясь выйти из губительной для него полосы света.
— Держать луч! — приказал Боев расчету АПМ. Пока инструктор торопливо, ломая ногти, отстегивал
карабин на ошейнике собаки, намереваясь пустить Гая в погоню, Апанасенко сам, не дожидаясь команды, бросился нарушителю наперерез. Он едва не плыл по глубокому снегу, но не отставал от нарушителя ни на шаг, и Боев с тревогой наблюдал за этим стремительным бегом: хватит ли у Апанасенко сил, не подведет ли в критический момент слабое здоровье солдата?
Гай уже пластал широким наметом по сугробам, уже близок был к цели, когда Апанасенко в прыжке настиг нарушителя, сбил его с ног и крепко припечатал лицом в снег.
Боев облегченно вздохнул, вытер набежавший из-под шапки пот и посмотрел на часы. Сверкнувшие при свете луча стрелки показывали ровно восемнадцать ноль-ноль. Всего восемь минут прошло с момента объявления тревоги, которые и для него, и для подчиненных ему солдат показались растянутыми чуть ли не в вечность. Но ради этих восьми скоротечных минут стоило без устали работать и бороться за право считать себя человеком, стоило жить в этом огромном и сложном мире, защищать свою Родину, как защищают мать.
— Луч погасить… — расслабленным голосом передал Боев радисту. — Всем — ко мне.
Солдаты с любопытством разглядывали нарушителя, его диковинный белый костюм на «молниях», мало что выражавшее лицо.
— Товарищ майор! — вдруг заволновался Гвоздев. — Товарищ майор! Это мотоциклист. Помните, осенью?
— Разберемся, Гвоздев. Теперь уже разберемся.
— Точно, это он, я его сразу узнал, как увидел. Я его лицо на всю жизнь запомнил, товарищ майор…
— По машинам! — раздалось в заснеженном лесу. — Давайте, Шарапов, на заставу. Людям пора отдыхать.
Уже в канцелярии Боев ненадолго закрыл глаза. Только сейчас он почувствовал, как устал за последние дни, как ему необходимо просто выспаться, отойти, хоть ненадолго, от всех заставских дел.
«Хорошо бы на день-другой съездить в город, побродить по новым кварталам. Вон как быстро строится, не уследишь… Или взять с собой Трофимова да махнуть куда-нибудь на рыбалку! А еще хорошо бы попасть в Музей янтаря, не был там уже тысячу лет, да…»
Он открыл глаза, позвал замполита:
— Чеботарев, а, Чеботарев! Как бы сейчас чайку? Нашего, пограничного, в деготь. А, не против? Ну, когда бы ты был против такого деликатеса? Чай — он нервы успокаивает, опять же глаза после чая видят лучше и вовсе не тянет курить. Дежурный! — позвал он. — Дежурный, говорю, куда вы запропастились? Принесите-ка нам с замполитом чаю… И масла бы неплохо, с черненьким хлебушком. Поняли, нет? Вот так. Самое время нам с тобой, Чеботарев, подкрепиться. Чувствую, еще тот будет с задержанным разговор. Ох, и не люблю я эту казуистику: допрашивай, сверяй, записывай, а он врет, врет, врет… Ладно, мы тоже не лыком шиты. Верно?
…Освободились они с Чеботаревым только к утру. Завидев сочившийся в окна слабый свет, Боев оторвал на подставке листок календаря, повертел его в руках.
— Ба, Чеботарев, ты гляди! Оказывается, сегодня была самая длинная ночь в году! Во время летит…
Сам подумал: «Скоро и Новый год. Надо бы заранее попросить лесничество, пусть привезут на заставу елку. Солдаты ее нарядят, наши жены испекут пирогов, глядишь, ребята попразднуют, вроде как дома побывают…»
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
РАССКАЗЫ
НИКОЛАЙ ЧЕРКАШИН ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ
В радиолокаторщики Виктор Кутырев попал по иронии судьбы; точнее — по бездумной шутке «земели» — москвича сержанта Суромина. В тот роковой день после трехкилометрового кросса Кутырев, держась за ноющий бок, с кусочком сахара под языком, забрел отдышаться в радиотехнический класс. В уютной комнате терпко благоухала канифоль, таинственно отливали зеленью матовые экраны, и молодые пограничники, такие же, в общем-то, «пряники», как и он, Витька Кутырев, вместо того, чтобы носиться до боли в печени по распадкам и сопкам, занимались тонким и изящным ремеслом: паяли разноцветные проводки в электронных блоках.
— Давай к нам! — подмигнул земляк. — Видал, какая техника? Надоест на границу смотреть — переключил на телевизионную волну, и, пожалуйста, — хочешь хоккей, хочешь фигурное катание!
Не то чтобы Кутырев не знал, чем телевизор от локатора отличается… Но ведь поверил! Радиотехника — дело темное: диапазон-кенатрон, тумблер, верньер, крутнул-щелкнул, глядишь, а на экране и в самом деле — «В мире животных» или «А ну-ка, девушки!».
Как бы там ни было, а Кутырев написал заявление, которое потом пришлось переделать в «рапорт», и через пару дней уже перекалывал на зеленые петлицы «жучки» — крылышки с молниями, эмблемы радиотехнической службы.
К сержанту Суромину рядовой Кутырев вернулся, как бумеранг, не попавший в цель. Правда, случилось это через полгода после того, как новоиспеченные операторы радиолокационных станций разъехались из отряда по заставам,
…Болотного цвета вертолет с каемчатой звездой на борту, рокоча и вороша тугим ветром кусты багульника, кружил над вершиной Камень-Фазана. Выискав «пятачок», он опустился и, расставшись с небесной легкостью, грузно осел на шасси.
Избушку ПТН — поста технического наблюдения — Кутырев заметил еще с воздуха при подлете к скале, а вот сержанта Суромина и его напарника — длинного усатого бойца — уже на земле. Оба, прикрываясь от воздушных струй, вжимались спинами в бревенчатую стенку. Не дожидаясь, когда замрут обвисшие лопасти, Кутырев выскочил из округлого вертолетного бока и бросился к сержанту. Обнялись на радостях. В этой глуши знакомого человека встретить — это брательника повидать. А тут — земляк, да еще какой — в Москве на одной заставе жили — Преображенской, и на Дальнем Востоке на одну умудрились попасть.
Потом перетаскивали из вертолета мешки с горохом и картошкой, ящики с тушенкой и сгущенкой, выкатывали бочки с соляром — запасались месяца на три, до следующей смены.
Летчик, отодвинув выпуклую стеклянную дверцу, помахал им из кабины, ветер от винта примял траву, вертолет привстал на шасси — стойки облегченно выпрямились, и машина прянула в небо с переливчатым рокотом,
Вот и все. Дремучая тишина сомкнулась над Камень-Фазаном.
Новое жилище Кутыреву понравилось. В тесной горенке на широких половицах стояли три железные кровати, застланные по-белому. Фонарь «летучая мышь» наводил на мысль о ночной непогоде и почему-то контрабандистах. На каменной печурке с треснувшей плитой клокотал бывалый чайник. Все являло суровую обитель мужчин, которую скрашивали отчасти банка с плавающим лотосом на подоконнике да портрет Софии Ротару, вырезанный из «Смены». Но главное место в домике занимал железный ящик на треноге с круглым экраном и винтовым стулом подле — индикатор радиолокационного обзора.
ПТН располагался на плоской вершине скалы, приткнувшейся у берега широкого пограничного залива так, что вся его акватория, кроме малого сектора, закрытого мысом Острожным, попадала в зону ночного электронного наблюдения. За мысом стояла застава, причал скоростных катеров, которые по тревожному сигналу с Камень-Фазана срывались с места и, окрыленные белыми бурунами, неслись к обнаруженной цели. Правда, за всю историю приозерной заставы катера по боевой тревоге выходили дважды. Один раз, когда с того берега принесло большую деревянную бочку для засолки рыбы; и еще, когда ветер угнал с нашей стороны непривязанную лодку.
Смотреть в круглое оконце экрана поначалу было даже интересно. Вращается, как стрелка на циферблате, яркий лучик и «отбивает» призрачное очертание береговой линии, зубчатый профиль невидимого даже в бинокль мыса Острожного, вершины таких же далеких утесов. Все, что попадало под лучик развертки, вспыхивало ярким фосфорическим светом, а затем медленно меркло, пока раскаленная спица снова не задевала бледную, почти потухшую прорезь, и она проступала на экране в слепяще ярких контурах. Это походило в чем-то на работу человеческой памяти. Разве не так же меркли и тускнели былые впечатления, лица, города, книги, пока они снова не попадали в луч взгляда, не оживали в нем и сознании сиюминутным вспышечным светом? Москва, старинный дом с эркерами на Оленьем валу, высокая девушка в черном пальто, с небрежно заброшенным за плечи меховым капюшоном — Ленка, — едва лишь Кутырев оказался на Дальнем Востоке, забрезжили в памяти бесплотно и призрачно, но лишь до очередного письма и, конечно же, до будущей встречи.
Вглядываться в экран, на котором застыла одна и та же «картинка», ничего не происходило и не появлялось, осточертело на третьи сутки «боевого дежурства», как высокопарно называл сержант Суромин сутулое бдение по ночам возле железного куба станции. Всякий раз перед началом ночных вахт сержант выстраивал перед кроватными спинками «личный состав ПТН», то есть его, рядового Кутырева, и ефрейтора Небылицу, парня высоченного и молчаливого, как пограничная вышка, командовал: «Отделение, равняйсь! Смирно!», а потом, уставившись невидящим взглядом в звездочку на кутыревской ушанке, чеканил нараспев: «Приказываю рядовому Кутыреву заступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик!»
От сочетания своей фамилии с торжественным названием страны у Кутырева перехватывало горло, В грозном слове «граница» слышалось и рычание розыскной овчарки, и лязг передернутого затвора. Но едва он садился на круглый фортепианный стул перед ящиком «дурмашины», как волнение тотчас же исчезало и суроминский пафос здесь, на забытом богом и «шпиёнами» участке, разыгранный перед куцым строем, который и строем-то не назовешь, так — встали рядышком коломенская верста да московский водохлеб, — казался нелепой службистской выходкой. Ну что ему стоило сказать по-свойски: «Давай, Витя, на службу. Гляди там в оба!»
А в остальном Суромин парень ничего, и Кутырев, сам того не желая, пока Небылица торчал на вышке у бинокуляра, рассказал ему под белый «офицерский» чай — так у них назывался чай со сгущенкой — и про маму, и про сестру, студентку иняза, и про отца, а больше всего про Ленку, бывшую одноклассницу, которая училась на вечернем биофаке и работала в лаборатории особо опасных инфекций.
— Целоваться-то не страшно было? — простодушно удивлялся Суромин.
— А я через тряпочку! — фанфаронил Кутырев, боясь признаться, что ни разу не посмел коснуться Ленкиных губ.
НИКОЛАЙ ЧЕРКАШИН ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ
В радиолокаторщики Виктор Кутырев попал по иронии судьбы; точнее — по бездумной шутке «земели» — москвича сержанта Суромина. В тот роковой день после трехкилометрового кросса Кутырев, держась за ноющий бок, с кусочком сахара под языком, забрел отдышаться в радиотехнический класс. В уютной комнате терпко благоухала канифоль, таинственно отливали зеленью матовые экраны, и молодые пограничники, такие же, в общем-то, «пряники», как и он, Витька Кутырев, вместо того, чтобы носиться до боли в печени по распадкам и сопкам, занимались тонким и изящным ремеслом: паяли разноцветные проводки в электронных блоках.
— Давай к нам! — подмигнул земляк. — Видал, какая техника? Надоест на границу смотреть — переключил на телевизионную волну, и, пожалуйста, — хочешь хоккей, хочешь фигурное катание!
Не то чтобы Кутырев не знал, чем телевизор от локатора отличается… Но ведь поверил! Радиотехника — дело темное: диапазон-кенатрон, тумблер, верньер, крутнул-щелкнул, глядишь, а на экране и в самом деле — «В мире животных» или «А ну-ка, девушки!».
Как бы там ни было, а Кутырев написал заявление, которое потом пришлось переделать в «рапорт», и через пару дней уже перекалывал на зеленые петлицы «жучки» — крылышки с молниями, эмблемы радиотехнической службы.
К сержанту Суромину рядовой Кутырев вернулся, как бумеранг, не попавший в цель. Правда, случилось это через полгода после того, как новоиспеченные операторы радиолокационных станций разъехались из отряда по заставам,
…Болотного цвета вертолет с каемчатой звездой на борту, рокоча и вороша тугим ветром кусты багульника, кружил над вершиной Камень-Фазана. Выискав «пятачок», он опустился и, расставшись с небесной легкостью, грузно осел на шасси.
Избушку ПТН — поста технического наблюдения — Кутырев заметил еще с воздуха при подлете к скале, а вот сержанта Суромина и его напарника — длинного усатого бойца — уже на земле. Оба, прикрываясь от воздушных струй, вжимались спинами в бревенчатую стенку. Не дожидаясь, когда замрут обвисшие лопасти, Кутырев выскочил из округлого вертолетного бока и бросился к сержанту. Обнялись на радостях. В этой глуши знакомого человека встретить — это брательника повидать. А тут — земляк, да еще какой — в Москве на одной заставе жили — Преображенской, и на Дальнем Востоке на одну умудрились попасть.
Потом перетаскивали из вертолета мешки с горохом и картошкой, ящики с тушенкой и сгущенкой, выкатывали бочки с соляром — запасались месяца на три, до следующей смены.
Летчик, отодвинув выпуклую стеклянную дверцу, помахал им из кабины, ветер от винта примял траву, вертолет привстал на шасси — стойки облегченно выпрямились, и машина прянула в небо с переливчатым рокотом,
Вот и все. Дремучая тишина сомкнулась над Камень-Фазаном.
Новое жилище Кутыреву понравилось. В тесной горенке на широких половицах стояли три железные кровати, застланные по-белому. Фонарь «летучая мышь» наводил на мысль о ночной непогоде и почему-то контрабандистах. На каменной печурке с треснувшей плитой клокотал бывалый чайник. Все являло суровую обитель мужчин, которую скрашивали отчасти банка с плавающим лотосом на подоконнике да портрет Софии Ротару, вырезанный из «Смены». Но главное место в домике занимал железный ящик на треноге с круглым экраном и винтовым стулом подле — индикатор радиолокационного обзора.
ПТН располагался на плоской вершине скалы, приткнувшейся у берега широкого пограничного залива так, что вся его акватория, кроме малого сектора, закрытого мысом Острожным, попадала в зону ночного электронного наблюдения. За мысом стояла застава, причал скоростных катеров, которые по тревожному сигналу с Камень-Фазана срывались с места и, окрыленные белыми бурунами, неслись к обнаруженной цели. Правда, за всю историю приозерной заставы катера по боевой тревоге выходили дважды. Один раз, когда с того берега принесло большую деревянную бочку для засолки рыбы; и еще, когда ветер угнал с нашей стороны непривязанную лодку.
Смотреть в круглое оконце экрана поначалу было даже интересно. Вращается, как стрелка на циферблате, яркий лучик и «отбивает» призрачное очертание береговой линии, зубчатый профиль невидимого даже в бинокль мыса Острожного, вершины таких же далеких утесов. Все, что попадало под лучик развертки, вспыхивало ярким фосфорическим светом, а затем медленно меркло, пока раскаленная спица снова не задевала бледную, почти потухшую прорезь, и она проступала на экране в слепяще ярких контурах. Это походило в чем-то на работу человеческой памяти. Разве не так же меркли и тускнели былые впечатления, лица, города, книги, пока они снова не попадали в луч взгляда, не оживали в нем и сознании сиюминутным вспышечным светом? Москва, старинный дом с эркерами на Оленьем валу, высокая девушка в черном пальто, с небрежно заброшенным за плечи меховым капюшоном — Ленка, — едва лишь Кутырев оказался на Дальнем Востоке, забрезжили в памяти бесплотно и призрачно, но лишь до очередного письма и, конечно же, до будущей встречи.
Вглядываться в экран, на котором застыла одна и та же «картинка», ничего не происходило и не появлялось, осточертело на третьи сутки «боевого дежурства», как высокопарно называл сержант Суромин сутулое бдение по ночам возле железного куба станции. Всякий раз перед началом ночных вахт сержант выстраивал перед кроватными спинками «личный состав ПТН», то есть его, рядового Кутырева, и ефрейтора Небылицу, парня высоченного и молчаливого, как пограничная вышка, командовал: «Отделение, равняйсь! Смирно!», а потом, уставившись невидящим взглядом в звездочку на кутыревской ушанке, чеканил нараспев: «Приказываю рядовому Кутыреву заступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик!»
От сочетания своей фамилии с торжественным названием страны у Кутырева перехватывало горло, В грозном слове «граница» слышалось и рычание розыскной овчарки, и лязг передернутого затвора. Но едва он садился на круглый фортепианный стул перед ящиком «дурмашины», как волнение тотчас же исчезало и суроминский пафос здесь, на забытом богом и «шпиёнами» участке, разыгранный перед куцым строем, который и строем-то не назовешь, так — встали рядышком коломенская верста да московский водохлеб, — казался нелепой службистской выходкой. Ну что ему стоило сказать по-свойски: «Давай, Витя, на службу. Гляди там в оба!»
А в остальном Суромин парень ничего, и Кутырев, сам того не желая, пока Небылица торчал на вышке у бинокуляра, рассказал ему под белый «офицерский» чай — так у них назывался чай со сгущенкой — и про маму, и про сестру, студентку иняза, и про отца, а больше всего про Ленку, бывшую одноклассницу, которая училась на вечернем биофаке и работала в лаборатории особо опасных инфекций.
— Целоваться-то не страшно было? — простодушно удивлялся Суромин.
— А я через тряпочку! — фанфаронил Кутырев, боясь признаться, что ни разу не посмел коснуться Ленкиных губ.
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
Зимой по льду залива на Камень-Фазан примчали аэросани, привезли смену, а прежний расчет с ветерком доставили на заставу. Двухэтажное подворье с гаражом, баней, причалом, вышкой, вольером и вертолетной площадкой показалось им шумным городом; заставские новости ошеломили. За сопкой Кратерная взяли нарушителя, и трое бойцов одного с Кутыревым набора сверкали серебряными медалями на зелено-красных колодках. На дозорной тропе видели тигра. Овчарке Веге дикий кабан порвал ухо… В курилке Кутырев жадно слушал рассказы о вылетах тревожной группы на вертолетах, о том, как бранятся ломаными русскими словами солдаты с сопредельной территории, как горланят чужие репродукторы, выставленные на шестах по ту сторону пограничного ручья.
Каждый вечер под навесом у заставских ворот солдаты примыкали к автоматам тяжелые оранжевые магазины и, обвешанные всем необходимым для боя, уходили туда, где взрыхленная полоса окаймляла край страны и где бренчливая музыка из настырных репродукторов прикрывала глухие взрывы, раздававшиеся в котлованах каких-то странных строек за обратными скатами желтых сопок. А каменьфазанцы шелестели в радиоклассе простынями схем, вникали в устройство новых приборов, «прозванивали» блоки на регламентных работах, плавили олово и кадили канифолью. Так что Кутыреву казалось порой, что судьба, словно назойливо заботливая тетка, определила его не на заставу, а в телевизионное ателье — подальше от невзгод и опасностей. Кутырев клял тот день, когда его занесло в радиокласс, клял Суромина за его дурацкую шутку насчет хоккея по радару. Честно говоря, купился он тогда вовсе не на нее…
Краем глаза он прочел название учебного плаката, прикрытого широченной суроминской спиной, — «Лампа бегущей волны». Если бы сержант чуть подвинулся и Кутырев увидел скучную схему электровакуумного прибора, похожего на большой термометр, быть может, все повернулось бы иначе. Но тогда ему живо представилась Лена, которая стоит на берегу моря с лампой в руке, и бегущие волны раскатываются у ее ног в тонкие водяные листы… Позже, далее узнав электронный смысл процесса, происходящего в длинной стеклянной оболочке, Кутырев спрашивал Лену в письме: «Хочешь, я пришлю тебе лампу бегущей волны?» А что? Это звучало и поэтично и современно. Не то что «подари мне лунный камень» или «с неба звездочку достану».
Кутырев вообще любил загадочные и красивые названия. Однажды в каком-то журнале прочитал о странной болезни — «лихорадке скалистых гор». Так потом целый месяц, сидя за постылым экраном, представлял себе, как его сразил этот красивый недуг, и сержант Суромин вынужден был написать Лене письмо, в котором сообщил, что ваш-де знакомый Виктор Кутырев тяжело заболел лихорадкой скалистых гор и сейчас находится в гарнизонном госпитале. Далее развивалась грустная и сладостная история, как Лена отправляется по заданию лаборатории особо опасных инфекций на Дальний-предальний Восток, в затерянный приграничный городок, чтобы взять у больного бактериологические пробы крайне опасной и почти неизвестной науке болезни. Облачившись в спецкостюм, она бесстрашно входит в изолятор, где мечется в бреду и одиночестве молодой пограничник…
О, знал бы Кутырев, как заболеть этой роскошной лихорадкой, он давно бы уже ее подхватил и скорее бы всего отказался от госпиталя, перемогал бы болезнь сам на отрезанном от всего мира Камень-Фазане, погибал бы, как чах от малярии в безвестной кавказской крепости разжалованный в рядовые Бестужев, а все-таки в положенный час поднимался бы с койки и дежурил у проклятого локатора, дрожа под наброшенной шинелью от озноба-трясуна.
…И только Суромин не унывал. Делал по три раза на дню силовую гимнастику со всевозможными эспандерами — ручными, ножными, кистевыми.
* * *
Весна в последний год кутыревской службы выдалась такая, что в солдатских подушках зашевелились петушиные перья. Весна на заставе — время тяжелых почтовых сум. Каждую субботу заставский почтальон, скособочившись, оттаскивал в командирский «газик» коробки с фильмами и портфель, туго набитый пухлыми конвертами.
Письма от Лены стали приходить все реже и реже и такими тонкими, будто худели к концу долгого и нелегкого пути через всю страну.
В самый разгар нежного и смутного месяца апреля тяжело груженный пограничный вертолет высадил на Камень-Фазане расчет сержанта Суромина и, забрав предыдущую смену, ушел, весело посверкивая винтом, на Большую землю.
Ничего тут не изменилось. Все так же простиралась заснеженная гладь залива, все так же угрюмо высились береговые утесы, все те же «местники» — местные предметы — отражались на экране с удручающей неизменностью. Снова Кутыреву стали сниться зеленые сны — в цвет мозолившей глаза «картинки»: зеленоватая Москва, зеленоватый, будто из бутылочного стекла, дом с эркерами, зеленоватая в потустороннем фосфорическом сиянии Лена…
Где-то гарцевали на конях всадники, приспустив ремешки с зеленых фуражек; где-то резали океанскую волну корабли под зелеными вымпелами; где-то неслись по следу тревожные группы, а здесь — под усыпляющее зуденье приборов осоловевшие от скуки операторы следили до зеленых чертиков за ленивым вращением развертки, которая хоть бы раз за много лет кряду наткнулась на живую реальную цель. Да и то сказать, какой шпион или диверсант ринется в открытую по озеру, если оно просматривается и просвечивается вдоль, поперек и в мелкую клетку?! Чтобы заставить себя смотреть на экран, Кутырев каждый день придумывал новую игру. Так уверял он себя, что именно сегодня в районе озера возникнет уникальное возмущение палеомагнетизма Земли и на экране его станции появится на несколько секунд изображение затонувшего материка Лемурии, как это случалось с радиолокаторщиками одного американского эсминца, наблюдавшими, если верить популярному журналу, электронный призрак Атлантиды.
Однажды Кутырева осенила мысль, что его РЛС[1] запросто может засечь какой-нибудь неопознанный летающий объект, и три вахты подряд он всматривался в экран с таким вниманием, что сержант Суромин несколько раз заглядывал ему через плечо — уж не появилась ли в зоне обзора цель? Увы, НЛО,[2] почуяв к себе слишком пристальный интерес, облетали Камень-Фазан стороной.
Иногда Кутырев представлял себе, что перед ним не заурядный индикатор кругового обзора, а иллюминатор батискафа, и эти мерцающие туманности в его окружье не береговая линия, а рельеф глубочайшей впадины, над которой завис в океанской толще его подводный корабль. Но что-то слишком долго он висит на одном месте…
Скука зеленая! Только оператор какого-нибудь забытого богом и шпионами поста технического наблюдения мог придумать это выражение.
Тоскливее всего было зимой. Летом на озере появлялись рыбацкие мотоботы, и в журнал наблюдений можно было хоть что-то записать: дистанция, пеленг, курс… Зимой озеро превращалось в белое ровное поле, и в журнале со страницы на страницу кочевала набившая оскомину запись: «В зоне р/л наблюдения целей не обнаружено».
Зимой на Камень-Фазан обрушивались залетные с океана ветры, так, что труба по ночам выла мерзко, как пес по покойнику, дребезжали стекла, и вращающаяся антенна сбоивала, отмечая на экране особо сильные порывы белесыми мазками. И странно было наблюдать этот зримый ветер.
Зимой из избушки почти не выбирались, чтобы не унесло с пятачка двадцатиметроворостой скалы. Разве что спускались, держась за натянутый трос, к проруби по воду да выходили втащить очередную корягу на дрова, притороченную к скобам в стенах сруба. От этого вынужденного затворничества все трое так намозолили друг другу глаза, что Кутырев знал веснушки на суроминской физиономии наперечет, как точки «местников» на экране радара. Вдруг обнаружилось, что Небылица по ночам издает носом басовитое жужжание, будто у него застряла там осенняя муха; а Кутырев узнал, к величайшему удивлению, что вот уже много недель подряд он несказанно раздражает Суромина своей привычкой колоть косточки из компота в дверном зажиме. Осколки скорлупы, мол, хрустят потом под сапогами, портится дверной косяк и вообще треск скорлупы действует на его нервную систему, как на иных визг ножа по стеклу.
А тут и вовсе вышла крупная ссора из-за пустяка. За вечерним чаем Кутырев посоветовал фразу «приказываю заступить на охрану» слегка приблизить к жизни — «приказываю засесть на охрану», так как они, мол, охраняют границу в основном мягким местом, натирая на нем боевые мозоли. Суромин вспылил, а Кутырев взорвался и выговорил наконец все, что накопилось: они-де никакие не пограничники, а самые настоящие дачники, которые всю дорогу попивают чаек с молочком, сидя у «тиливизера», что локатор, эту «пилораму человеческих душ», давно пора утопить в озере, и еще многое такое, после чего Суромин перешел с Кутыревым на «вы» и обращался к нему исключительно по сугубо служебным делам. Жизнь на ПТН стала и вовсе невыносимой. Попытки разговорить великого молчуна Небылицу ни к чему не привели.
— Антон! — окликал поутру Кутырев ефрейтора. На редкость нежная кожа Небылицы запечатлевала не только складки наволочки, но, казалось, и все перья, набитые в подушку.
— Ну?
— Ты про Рахметова слышал?
— Ну.
— Который гвозди ел.
— Ну.
— Ну, ну — галоши мну! — не выдерживал Кутырев. — Небылица ты и есть небылица. Расскажи кому, что такие живут, — не поверят.
Чтобы поменьше общаться со своими веселыми соседями, Кутырев попросился в самую трудную — предутреннюю смену, обратившись к Суромину по всем правилам Устава гарнизонной и караульной службы. Сержант согласился. Он и сам теперь предпочитал видеть своего «земелю» больше спящим, чем бодрствующим.
Зато Кутырев открыл вдруг еще одну поистине восхитительную сторону ночного одиночества. Поглядывая одним глазом на экран, другим можно было писать длиннющие письма Лене, не прикрывая листок ладонью и не вздрагивая при нечаянном приближении сослуживцев.
Однажды Суромин, листая журнал наблюдений, нашел мелко исписанный тетрадный листок:
«Здравствуй, Лена! Только что вернулись с обхода государственной границы. Ходил вместе с начальником заставы и верным своим Ингусом. Поразительно умный пес. Правда, в этот раз ему не повезло — сунулся в кусты, а там кабан, оттяпал ему пол-уха. Идет и скулит. Не залижешь — языком не достать. Хорошо у капитана зеленка оказалась — замазали, и стал он зеленоухим. Прямо-таки Бим зеленое ухо…»
Суромин огляделся: Небылица сидел за станцией, Кутырев рубил в сенцах корягу; перевернул листок и стал быстро-быстро писать на обороте. Письмо вложил в журнал на прежнее место.
За полночь устроившись поудобнее на вращающемся стуле, Кутырев раскрыл журнал, и тетрадный листок задрожал у него в пальцах.
«Здравствуйте, уважаемая Лена! — прыгали в глазах фиолетовые пружинки чужих строчек. — Пишет Вам непосредственный командир вашего знакомого Виктора Кутырева — сержант Суромин Дмитрий Федорович. Считаю своим долгом сообщить вам, что никакого Ингуса у Кутырева нет, а есть боевая электронная техника, к которой он относится весьма прохладно, позволяя себе писать во время дежурства личные письма».
Кутырев зарделся, вскочил и заметался по комнате, решая, сейчас ли стащить с Суромина одеяло и сказать ему все, что он думает о людях, читающих чужие письма, или отложить разговор до утра, но тут случайный взгляд на экран заставил его сесть поближе и подвернуть тумблер яркости. Точка. Крохотная точка величиной с крупинку возникла там, где ее никогда не было. Он даже поскреб стекло ногтем — не налипло ли чего? Нет. Белесое пятнышко оставалось. Помеха? Случайная засветка? Но развертка отбивает его уже в третий раз — уверенно и четко. Кутырев подвел к нему линию визира. Через минуту пятнышко из-под нее выползло. Сомнений не оставалось: цель! Малоразмерная. Движется с той стороны!
Не сводя глаз с отметки, Кутырев просунул руку сквозь решетку кроватной спинки и потряс Суромина за теплую пятку.
— Дима… Встань! Похоже — цель!
Суромин приподнялся на локте, секунду соображая, кто и зачем его будит, потом спрыгнул и в одних трусах прошлепал к станции. Вскочил и Небылица. Все трое, состукнувшись слегка головами, заглядывали на экран, и лица их обливало зеленоватым вкрадчивым светом.
— Цель! — хриплым то ли со сна, то ли от волнения голосом подтвердил Суромин. — И совсем рядом… В нашу сторону.
Он оторвался от экрана, посмотрел на Кутырева и Небылицу так, будто видел их впервые, и выдохнул отчаянно резко, с той решимостью, с какой нажимают кнопки опасных механизмов.
— Отделение — в ружье!
Словно выпростали пружины, и в груди, опустевшей легко и враз, запело зло, тревожно и радостно. Кутырев кинулся к автоматам. Его — крайний слева. Сумка с магазинами — тяжелая и слегка промасленная.
Впрыгивая в брюки, вбивая ноги в сапоги, Суромин выкрикивал наказы Небылице, который одевался наперегонки с ним.
— Свяжешься с заставой… Будешь следить за нами и целью… И наводить по азимуту наших… Понял?!
Напялив куртку и шапку, Кутырев вприпрыжку бросился за сержантом. Забытая тяжесть автомата приятно оттягивала плечо. «Кажется, постреляем!» — мелькнула радостная мысль. В сенцах он трахнулся коленом о недорубленную корягу, но в следующую секунду холодный ветер приятно остудил ушиб.
Вниз скатывались почти кубарем — Кутырев прожег рукавицу о перильный трос. Выбежали на лед и разъехались с разгону в разные стороны. Суромин засек по наручному компасу направление и, оскользаясь на голом льду, побежал туда, куда, по его расчету, сместилась цель, слегка забирая в пустыню замерзшего озера.
— Держись правее! — крикнул сержант, и Кутырев, не теряя его из виду, резво взял вправо, дабы не составлять в паре соблазнительную групповую мишень. Автомат сползал с плеча, его пришлось взять в руку. Сердце колотилось бешено, но еще не от бега, а от одной лишь мысли, что там, в непроглядном жутковатом пространстве, поджидало их нечто или некто, готовое к самому страшному и жестокому.
Океанский ветер вымел лед с тщанием снегоуборщика. Тайфуны, родившись где-то там, за Японскими островами, и, вдоволь накуролесив в прибрежных морях, прилетали сюда, на озеро, умирать и умирали в порывах бессильных, но яростных, способных еще и сбить с ног, и перекрыть путь упругой стеной. Очень скоро Кутырев стал хватать ртом воздух. Снова, как на кроссах, больно закололо в боку, во рту появился кровянистый привкус, и Виктор сбился на неровный шаг…
Что там стряслось в темноте, он толком и не понял. Сначала ветер донес обрывок суроминского «Стой! Стреля…». Потом три выстрела рванули воздух, и тут же торопливо татакнул автомат. В рваном свете дульных вспышек Кутырев увидел все же, как метнулась к берегу стремительная тень, как, пригнувшись, бросился за ней Суромин, а затем упал и, распростершись на льду, выпустил в прибрежные скалы длинную очередь. Пули высекли из скалы рой красных светляков — точь-в-точь сыпанули с трамвайной дуги искры.
Кутырев припустил изо всех сил, словно боясь, что роскошный этот фейерверк закончится без него и он ничего не успеет и не увидит.
— Ложись! — совсем близко заорал Суромин. — Ложись, балда! Падай!
Кутырев плюхнулся на лед, загремев автоматом, и тут же, тяжело дыша, приподнял голову. Ночь безлунная, но светлая, позволяла разглядеть и огромные от близости косо разбросанные подошвы суроминских сапог, и черную гладь замерзшей воды, уходившую из-под распластанного сержанта к берегу, и снежную наметь вдоль прибрежных камней, и гранитную стенку обрыва, под которой укрылся тот, кто стрелял первым. Бежать ему можно было лишь вправо или влево, прячась за камнями, но едва нарушитель вылез на снеговой фон, как Суромин предупредительной очередью вспорол перед ним сугроб. Все повторилось точно так же, когда нарушитель сунулся в другую сторону. И тогда он стал стрелять из-за груды валунов, как из хорошего дота.
Кутырев, силясь получше рассмотреть, кто там мечется в камнях, не заметил, куда переполз сержант. Он приподнялся повыше, и тут короткая злая сила рванула с головы ушанку. В уши ударил хлесткий раскат, гулко прянувший от гранитной стенки. Кутырев вжался в лед, пораженный не столько случившимся, сколько мыслью, что вот сейчас, сию минуту, в него стреляли, метили именно в его, кутыревскую, голову, чтобы раздробить кусочком металла его череп, прервать раз и навсегда его мысли, его дыхание, горячие толчки еще не унявшегося от бега сердца. Зачем? Что он сделал тому, кто только что так легко и чудовищно несправедливо чуть не лишил его жизни? Ведь это он тайком прокрался на его, кутыревскую, землю, а значит, это в его злой и неразумный мозг надо всадить, если уж на то пошло, девять граммов свинца в никелевой оболочке.
Вторая пуля пропела выше, и горячий от нее ветерок, показалось Виктору, ворохнул на затылке волосы. Голова без шапки сделалась вдруг беззащитной, будто с нее сняли непробиваемый шлем, и теперь, съежившись, он ждал третьего выстрела, ощущая какой-то занывшей жилкой то место, куда вот-вот вопьется неминуемая пуля. Руки дернулись сами собой и загородили это место автоматом — стальной ствольной коробкой. Попадет, обязательно попадет… Его же, гада, на снайпера учили. В спецшколе…
Припомнилось отрядное стрельбище. Сколько хлопот было, чтобы не дай бог не повернулся кто-нибудь с заряженным оружием в тыл огневого рубежа. Командиры отделений и даже офицеры заглядывали после стрельбы в патронники и заставляли делать контрольные спуски, подняв пустые автоматы в небо под углом в сорок пять градусов. А тут целят тебе в темечко, словно в тире, и ты уже наполовину мертв от цепенящего гипноза… Как в дурном сне. В ночных кошмарах надо вовремя вспомнить, что тебе это снится, вскрикнуть, шевельнуться… Кутырев рывком приткнул автомат к плечу, сковырнул предохранитель и, выставив ствол туда, откуда должна была прилететь последняя пуля, нажал на спуск… Он радостно поразился грохоту, который он натворил в этой стылой тишине, живому биению сработавшего механизма, алым всполохам в полуметре от глаза.
— Отползай! — прокричал откуда-то сбоку Суромин. — По вспышкам засечет!
И Кутырев резво засучил ногами, пополз, царапая лед бляхой ремня. Из-за валунов гахнул осторожный выстрел, но Кутырев его уже не боялся. Он замер метрах в десяти от Суромина, изготовился к стрельбе — благо пули летели не в сторону границы, но палить наобум не хотелось.
Так пролежали они четверть часа, пока не заныли от стужи колени.
— Дима! — окликнул Кутырев сержанта. — Может, подползем и с разных сторон!..
— Он тебе подползет. Лежи! Скоро наши подвалят. Зря не молоти! Бей только на отсечку.
Тот, за камнями, притих, видимо, берег патроны. Его убежище грозило обернуться ловушкой. Конечно же, он не станет ждать, когда сюда подрулят аэросани. Но все-таки на что-то надеется. На что?
Кутырев глянул на чуть посветлевший край неба и с ужасом понял, чего ждет тот, простреливший ему шапку. Рассвета! Они станут видны ему даже в самых серых предутренних сумерках. Он перебьет их, как тюленей на льдине.
Виктор выпростал из-под рукава мамин подарок, «Полет», — три часа. Если Небылица связался с заставой, то аэросани примчат минут через сорок. А если не связался? Атмосферные помехи? Да мало ли что?
Лежать на льду становилось невмоготу. Ноги совсем задубели, и холод, словно вода, пропитывал слой за слоем нетолстые кутыревские одежки. Ветер выдувал из рукавов остатки тепла, студил непокрытую голову. Мокрые от бега волосы смерзлись в сосульки. Надо бы поискать шапку… Кутырев лишь оторвал подбородок от приклада, как грянул выстрел. По щеке секануло ледяным крошевом — пуля клюнула возле плеча. Страшно захотелось ощупать свежую лунку.
Дело осложнялось теперь тем, что любое сколь-нибудь заметное движение выдавало их.
Ждать. Не шевелиться и ждать, пока за спиной не заревут воздушные винты…
Где-то он читал про пленного красноармейца, которого фашисты поливали водой на морозе, и тот силой самовнушения заставил себя поверить, что он изнемогает от жары, и даже парок закурился над его телом. Вспомнить бы, как пеклись они с Леной на сухумской гальке. После выпускных экзаменов родители увезли ее к морю, а он, вместо того чтобы готовиться в институт, тайком увязался за ними. «Случайно» встретил ее на набережной, и оба, нарадовавшись и наудивлявшись столь счастливому совпадению, отправились купаться. Раскаленные камешки пляжа испускали струистый жар, и чтобы прилечь, надо было поливать их водой.
Мама уверяла его в детстве, что человек, переспавший на сырой земле, на всю жизнь становится инвалидом, и запрещала садиться на траву без подстилки. Мама… Что-то она сейчас делает?.. В Москве сейчас вечер, вечер того самого дня, в котором каменьфазанцы безмятежно пребывали в жарко натопленном домике и предавались таким глупым раздорам. Вон лежит поодаль сержант Суромин, и нет теперь человека роднее и ближе его, потому что ни с кем другим Кутырев не делил еще такой страшной ночи, не лежал на ледяной плахе в ожидании прицельного по себе выстрела. И если им удастся выбраться отсюда живыми и невредимыми, то уж куда бы потом ни забросила их судьба, они все равно будут встречаться каждый год и вспоминать, как свистел ветер в высоких окольцованных автоматных мушках, как металась в камнях вражья тень, как предательски светлело небо.
А в Москве сейчас принаряженные горожане возносятся на эскалаторах к хлебам и зрелищам, спрашивают лишние билетики, ставят крестики в карточках спортлото, ничуть не подозревая, что из их шумных потоков исчезли два не самых плохих парня, и эти двое лежат на льду замерзшего озера, известного разве что географам, и сами постепенно превращаются в лед. И даже Ленка сидит, быть может, именно в эту самую минуту с каким-нибудь джинсовым хмырем и тянет через соломинку коктейль «Привет» или слушает с ним в пустой квартире «попсовую» музыку. Ведь не скажешь же ей на полном серьезе: «Только две весны, только две зимы ты в кино с другими не ходи».
Странное дело, Кутырев не испытывал никакой обиды ни на Лену, ни на тех праздных людей, которые беспечно предавались сейчас радостям жизни. Будто в его душе вместе с остатками тепла в груди вымерзли зависть, ревность, жадность, вымерзли и высыпались острыми кристалликами, и из их льдышек он теперь запросто мог сложить то слово, какое задала Снежная Королева своему пленнику, — «ВЕЧНОСТЬ»…
Он не слышал гортанного рокота аэросаней, не слышал хлопка и шипения осветительной ракеты, коротких потресков автоматных очередей…
Очнулся Кутырев от спиртового ожога во рту и, ощутив на миг душный запах овчины, тряску скорой езды, рев могучих моторов, забылся глубоко и надолго. Еще раз он пришел в себя, похоже, в госпитале, потому что пахло лекарствами, в глазах проплывали своды белых потолков, белые притолоки дверей; слегка потряхивало, его везли на высокой тележке, чей-то женский голос спрашивал: «Что с ним?», а мужской отвечал: «Гипотермия»… Кутырев хотел поправить: «Лихорадка скалистых гор», но язык и губы не шевелились…
Их положили в пустую многоместную палату, где стояли кровати с двумя матрасами на провально мягких панцирных сетках и тумбочки по одной на человека. Но, несмотря на всю эту роскошь, сержант Суромин требовал, чтобы его отправили к ребятам на заставу, так как он совершенно здоров и не собирается пролеживать зазря лучшие дни жизни. Он успокоился только утром, когда сестра высыпала ему на постель целый ворох накопившихся писем. Кутырев спал. Суромин аккуратно отсортировал почту его и свою. Двенадцать писем пришло «земеле» от матери, семь от сестры и одно — невесомо тонкое, с недавним штемпелем — от Лены. Поразмыслив, Суромин вынул его из стопки и спрятал под свой тюфяк — до лучших времен. Он знал по себе, что такие вот долгожданные и почти пустые на ощупь конверты опаснее неразорвавшихся гранат…
Зазвенела сетка, Кутырев заворочался — открыл глаза.
— Привет, Кутырек!
— Привет.
— Ну, как там твой Ингус поживает?
Кутырев вздернул брови. Вспомнил. Засмеялся.
— Нормально! Нос холодный — пес здоров.
Каждый вечер под навесом у заставских ворот солдаты примыкали к автоматам тяжелые оранжевые магазины и, обвешанные всем необходимым для боя, уходили туда, где взрыхленная полоса окаймляла край страны и где бренчливая музыка из настырных репродукторов прикрывала глухие взрывы, раздававшиеся в котлованах каких-то странных строек за обратными скатами желтых сопок. А каменьфазанцы шелестели в радиоклассе простынями схем, вникали в устройство новых приборов, «прозванивали» блоки на регламентных работах, плавили олово и кадили канифолью. Так что Кутыреву казалось порой, что судьба, словно назойливо заботливая тетка, определила его не на заставу, а в телевизионное ателье — подальше от невзгод и опасностей. Кутырев клял тот день, когда его занесло в радиокласс, клял Суромина за его дурацкую шутку насчет хоккея по радару. Честно говоря, купился он тогда вовсе не на нее…
Краем глаза он прочел название учебного плаката, прикрытого широченной суроминской спиной, — «Лампа бегущей волны». Если бы сержант чуть подвинулся и Кутырев увидел скучную схему электровакуумного прибора, похожего на большой термометр, быть может, все повернулось бы иначе. Но тогда ему живо представилась Лена, которая стоит на берегу моря с лампой в руке, и бегущие волны раскатываются у ее ног в тонкие водяные листы… Позже, далее узнав электронный смысл процесса, происходящего в длинной стеклянной оболочке, Кутырев спрашивал Лену в письме: «Хочешь, я пришлю тебе лампу бегущей волны?» А что? Это звучало и поэтично и современно. Не то что «подари мне лунный камень» или «с неба звездочку достану».
Кутырев вообще любил загадочные и красивые названия. Однажды в каком-то журнале прочитал о странной болезни — «лихорадке скалистых гор». Так потом целый месяц, сидя за постылым экраном, представлял себе, как его сразил этот красивый недуг, и сержант Суромин вынужден был написать Лене письмо, в котором сообщил, что ваш-де знакомый Виктор Кутырев тяжело заболел лихорадкой скалистых гор и сейчас находится в гарнизонном госпитале. Далее развивалась грустная и сладостная история, как Лена отправляется по заданию лаборатории особо опасных инфекций на Дальний-предальний Восток, в затерянный приграничный городок, чтобы взять у больного бактериологические пробы крайне опасной и почти неизвестной науке болезни. Облачившись в спецкостюм, она бесстрашно входит в изолятор, где мечется в бреду и одиночестве молодой пограничник…
О, знал бы Кутырев, как заболеть этой роскошной лихорадкой, он давно бы уже ее подхватил и скорее бы всего отказался от госпиталя, перемогал бы болезнь сам на отрезанном от всего мира Камень-Фазане, погибал бы, как чах от малярии в безвестной кавказской крепости разжалованный в рядовые Бестужев, а все-таки в положенный час поднимался бы с койки и дежурил у проклятого локатора, дрожа под наброшенной шинелью от озноба-трясуна.
…И только Суромин не унывал. Делал по три раза на дню силовую гимнастику со всевозможными эспандерами — ручными, ножными, кистевыми.
* * *
Весна в последний год кутыревской службы выдалась такая, что в солдатских подушках зашевелились петушиные перья. Весна на заставе — время тяжелых почтовых сум. Каждую субботу заставский почтальон, скособочившись, оттаскивал в командирский «газик» коробки с фильмами и портфель, туго набитый пухлыми конвертами.
Письма от Лены стали приходить все реже и реже и такими тонкими, будто худели к концу долгого и нелегкого пути через всю страну.
В самый разгар нежного и смутного месяца апреля тяжело груженный пограничный вертолет высадил на Камень-Фазане расчет сержанта Суромина и, забрав предыдущую смену, ушел, весело посверкивая винтом, на Большую землю.
Ничего тут не изменилось. Все так же простиралась заснеженная гладь залива, все так же угрюмо высились береговые утесы, все те же «местники» — местные предметы — отражались на экране с удручающей неизменностью. Снова Кутыреву стали сниться зеленые сны — в цвет мозолившей глаза «картинки»: зеленоватая Москва, зеленоватый, будто из бутылочного стекла, дом с эркерами, зеленоватая в потустороннем фосфорическом сиянии Лена…
Где-то гарцевали на конях всадники, приспустив ремешки с зеленых фуражек; где-то резали океанскую волну корабли под зелеными вымпелами; где-то неслись по следу тревожные группы, а здесь — под усыпляющее зуденье приборов осоловевшие от скуки операторы следили до зеленых чертиков за ленивым вращением развертки, которая хоть бы раз за много лет кряду наткнулась на живую реальную цель. Да и то сказать, какой шпион или диверсант ринется в открытую по озеру, если оно просматривается и просвечивается вдоль, поперек и в мелкую клетку?! Чтобы заставить себя смотреть на экран, Кутырев каждый день придумывал новую игру. Так уверял он себя, что именно сегодня в районе озера возникнет уникальное возмущение палеомагнетизма Земли и на экране его станции появится на несколько секунд изображение затонувшего материка Лемурии, как это случалось с радиолокаторщиками одного американского эсминца, наблюдавшими, если верить популярному журналу, электронный призрак Атлантиды.
Однажды Кутырева осенила мысль, что его РЛС[1] запросто может засечь какой-нибудь неопознанный летающий объект, и три вахты подряд он всматривался в экран с таким вниманием, что сержант Суромин несколько раз заглядывал ему через плечо — уж не появилась ли в зоне обзора цель? Увы, НЛО,[2] почуяв к себе слишком пристальный интерес, облетали Камень-Фазан стороной.
Иногда Кутырев представлял себе, что перед ним не заурядный индикатор кругового обзора, а иллюминатор батискафа, и эти мерцающие туманности в его окружье не береговая линия, а рельеф глубочайшей впадины, над которой завис в океанской толще его подводный корабль. Но что-то слишком долго он висит на одном месте…
Скука зеленая! Только оператор какого-нибудь забытого богом и шпионами поста технического наблюдения мог придумать это выражение.
Тоскливее всего было зимой. Летом на озере появлялись рыбацкие мотоботы, и в журнал наблюдений можно было хоть что-то записать: дистанция, пеленг, курс… Зимой озеро превращалось в белое ровное поле, и в журнале со страницы на страницу кочевала набившая оскомину запись: «В зоне р/л наблюдения целей не обнаружено».
Зимой на Камень-Фазан обрушивались залетные с океана ветры, так, что труба по ночам выла мерзко, как пес по покойнику, дребезжали стекла, и вращающаяся антенна сбоивала, отмечая на экране особо сильные порывы белесыми мазками. И странно было наблюдать этот зримый ветер.
Зимой из избушки почти не выбирались, чтобы не унесло с пятачка двадцатиметроворостой скалы. Разве что спускались, держась за натянутый трос, к проруби по воду да выходили втащить очередную корягу на дрова, притороченную к скобам в стенах сруба. От этого вынужденного затворничества все трое так намозолили друг другу глаза, что Кутырев знал веснушки на суроминской физиономии наперечет, как точки «местников» на экране радара. Вдруг обнаружилось, что Небылица по ночам издает носом басовитое жужжание, будто у него застряла там осенняя муха; а Кутырев узнал, к величайшему удивлению, что вот уже много недель подряд он несказанно раздражает Суромина своей привычкой колоть косточки из компота в дверном зажиме. Осколки скорлупы, мол, хрустят потом под сапогами, портится дверной косяк и вообще треск скорлупы действует на его нервную систему, как на иных визг ножа по стеклу.
А тут и вовсе вышла крупная ссора из-за пустяка. За вечерним чаем Кутырев посоветовал фразу «приказываю заступить на охрану» слегка приблизить к жизни — «приказываю засесть на охрану», так как они, мол, охраняют границу в основном мягким местом, натирая на нем боевые мозоли. Суромин вспылил, а Кутырев взорвался и выговорил наконец все, что накопилось: они-де никакие не пограничники, а самые настоящие дачники, которые всю дорогу попивают чаек с молочком, сидя у «тиливизера», что локатор, эту «пилораму человеческих душ», давно пора утопить в озере, и еще многое такое, после чего Суромин перешел с Кутыревым на «вы» и обращался к нему исключительно по сугубо служебным делам. Жизнь на ПТН стала и вовсе невыносимой. Попытки разговорить великого молчуна Небылицу ни к чему не привели.
— Антон! — окликал поутру Кутырев ефрейтора. На редкость нежная кожа Небылицы запечатлевала не только складки наволочки, но, казалось, и все перья, набитые в подушку.
— Ну?
— Ты про Рахметова слышал?
— Ну.
— Который гвозди ел.
— Ну.
— Ну, ну — галоши мну! — не выдерживал Кутырев. — Небылица ты и есть небылица. Расскажи кому, что такие живут, — не поверят.
Чтобы поменьше общаться со своими веселыми соседями, Кутырев попросился в самую трудную — предутреннюю смену, обратившись к Суромину по всем правилам Устава гарнизонной и караульной службы. Сержант согласился. Он и сам теперь предпочитал видеть своего «земелю» больше спящим, чем бодрствующим.
Зато Кутырев открыл вдруг еще одну поистине восхитительную сторону ночного одиночества. Поглядывая одним глазом на экран, другим можно было писать длиннющие письма Лене, не прикрывая листок ладонью и не вздрагивая при нечаянном приближении сослуживцев.
Однажды Суромин, листая журнал наблюдений, нашел мелко исписанный тетрадный листок:
«Здравствуй, Лена! Только что вернулись с обхода государственной границы. Ходил вместе с начальником заставы и верным своим Ингусом. Поразительно умный пес. Правда, в этот раз ему не повезло — сунулся в кусты, а там кабан, оттяпал ему пол-уха. Идет и скулит. Не залижешь — языком не достать. Хорошо у капитана зеленка оказалась — замазали, и стал он зеленоухим. Прямо-таки Бим зеленое ухо…»
Суромин огляделся: Небылица сидел за станцией, Кутырев рубил в сенцах корягу; перевернул листок и стал быстро-быстро писать на обороте. Письмо вложил в журнал на прежнее место.
За полночь устроившись поудобнее на вращающемся стуле, Кутырев раскрыл журнал, и тетрадный листок задрожал у него в пальцах.
«Здравствуйте, уважаемая Лена! — прыгали в глазах фиолетовые пружинки чужих строчек. — Пишет Вам непосредственный командир вашего знакомого Виктора Кутырева — сержант Суромин Дмитрий Федорович. Считаю своим долгом сообщить вам, что никакого Ингуса у Кутырева нет, а есть боевая электронная техника, к которой он относится весьма прохладно, позволяя себе писать во время дежурства личные письма».
Кутырев зарделся, вскочил и заметался по комнате, решая, сейчас ли стащить с Суромина одеяло и сказать ему все, что он думает о людях, читающих чужие письма, или отложить разговор до утра, но тут случайный взгляд на экран заставил его сесть поближе и подвернуть тумблер яркости. Точка. Крохотная точка величиной с крупинку возникла там, где ее никогда не было. Он даже поскреб стекло ногтем — не налипло ли чего? Нет. Белесое пятнышко оставалось. Помеха? Случайная засветка? Но развертка отбивает его уже в третий раз — уверенно и четко. Кутырев подвел к нему линию визира. Через минуту пятнышко из-под нее выползло. Сомнений не оставалось: цель! Малоразмерная. Движется с той стороны!
Не сводя глаз с отметки, Кутырев просунул руку сквозь решетку кроватной спинки и потряс Суромина за теплую пятку.
— Дима… Встань! Похоже — цель!
Суромин приподнялся на локте, секунду соображая, кто и зачем его будит, потом спрыгнул и в одних трусах прошлепал к станции. Вскочил и Небылица. Все трое, состукнувшись слегка головами, заглядывали на экран, и лица их обливало зеленоватым вкрадчивым светом.
— Цель! — хриплым то ли со сна, то ли от волнения голосом подтвердил Суромин. — И совсем рядом… В нашу сторону.
Он оторвался от экрана, посмотрел на Кутырева и Небылицу так, будто видел их впервые, и выдохнул отчаянно резко, с той решимостью, с какой нажимают кнопки опасных механизмов.
— Отделение — в ружье!
Словно выпростали пружины, и в груди, опустевшей легко и враз, запело зло, тревожно и радостно. Кутырев кинулся к автоматам. Его — крайний слева. Сумка с магазинами — тяжелая и слегка промасленная.
Впрыгивая в брюки, вбивая ноги в сапоги, Суромин выкрикивал наказы Небылице, который одевался наперегонки с ним.
— Свяжешься с заставой… Будешь следить за нами и целью… И наводить по азимуту наших… Понял?!
Напялив куртку и шапку, Кутырев вприпрыжку бросился за сержантом. Забытая тяжесть автомата приятно оттягивала плечо. «Кажется, постреляем!» — мелькнула радостная мысль. В сенцах он трахнулся коленом о недорубленную корягу, но в следующую секунду холодный ветер приятно остудил ушиб.
Вниз скатывались почти кубарем — Кутырев прожег рукавицу о перильный трос. Выбежали на лед и разъехались с разгону в разные стороны. Суромин засек по наручному компасу направление и, оскользаясь на голом льду, побежал туда, куда, по его расчету, сместилась цель, слегка забирая в пустыню замерзшего озера.
— Держись правее! — крикнул сержант, и Кутырев, не теряя его из виду, резво взял вправо, дабы не составлять в паре соблазнительную групповую мишень. Автомат сползал с плеча, его пришлось взять в руку. Сердце колотилось бешено, но еще не от бега, а от одной лишь мысли, что там, в непроглядном жутковатом пространстве, поджидало их нечто или некто, готовое к самому страшному и жестокому.
Океанский ветер вымел лед с тщанием снегоуборщика. Тайфуны, родившись где-то там, за Японскими островами, и, вдоволь накуролесив в прибрежных морях, прилетали сюда, на озеро, умирать и умирали в порывах бессильных, но яростных, способных еще и сбить с ног, и перекрыть путь упругой стеной. Очень скоро Кутырев стал хватать ртом воздух. Снова, как на кроссах, больно закололо в боку, во рту появился кровянистый привкус, и Виктор сбился на неровный шаг…
Что там стряслось в темноте, он толком и не понял. Сначала ветер донес обрывок суроминского «Стой! Стреля…». Потом три выстрела рванули воздух, и тут же торопливо татакнул автомат. В рваном свете дульных вспышек Кутырев увидел все же, как метнулась к берегу стремительная тень, как, пригнувшись, бросился за ней Суромин, а затем упал и, распростершись на льду, выпустил в прибрежные скалы длинную очередь. Пули высекли из скалы рой красных светляков — точь-в-точь сыпанули с трамвайной дуги искры.
Кутырев припустил изо всех сил, словно боясь, что роскошный этот фейерверк закончится без него и он ничего не успеет и не увидит.
— Ложись! — совсем близко заорал Суромин. — Ложись, балда! Падай!
Кутырев плюхнулся на лед, загремев автоматом, и тут же, тяжело дыша, приподнял голову. Ночь безлунная, но светлая, позволяла разглядеть и огромные от близости косо разбросанные подошвы суроминских сапог, и черную гладь замерзшей воды, уходившую из-под распластанного сержанта к берегу, и снежную наметь вдоль прибрежных камней, и гранитную стенку обрыва, под которой укрылся тот, кто стрелял первым. Бежать ему можно было лишь вправо или влево, прячась за камнями, но едва нарушитель вылез на снеговой фон, как Суромин предупредительной очередью вспорол перед ним сугроб. Все повторилось точно так же, когда нарушитель сунулся в другую сторону. И тогда он стал стрелять из-за груды валунов, как из хорошего дота.
Кутырев, силясь получше рассмотреть, кто там мечется в камнях, не заметил, куда переполз сержант. Он приподнялся повыше, и тут короткая злая сила рванула с головы ушанку. В уши ударил хлесткий раскат, гулко прянувший от гранитной стенки. Кутырев вжался в лед, пораженный не столько случившимся, сколько мыслью, что вот сейчас, сию минуту, в него стреляли, метили именно в его, кутыревскую, голову, чтобы раздробить кусочком металла его череп, прервать раз и навсегда его мысли, его дыхание, горячие толчки еще не унявшегося от бега сердца. Зачем? Что он сделал тому, кто только что так легко и чудовищно несправедливо чуть не лишил его жизни? Ведь это он тайком прокрался на его, кутыревскую, землю, а значит, это в его злой и неразумный мозг надо всадить, если уж на то пошло, девять граммов свинца в никелевой оболочке.
Вторая пуля пропела выше, и горячий от нее ветерок, показалось Виктору, ворохнул на затылке волосы. Голова без шапки сделалась вдруг беззащитной, будто с нее сняли непробиваемый шлем, и теперь, съежившись, он ждал третьего выстрела, ощущая какой-то занывшей жилкой то место, куда вот-вот вопьется неминуемая пуля. Руки дернулись сами собой и загородили это место автоматом — стальной ствольной коробкой. Попадет, обязательно попадет… Его же, гада, на снайпера учили. В спецшколе…
Припомнилось отрядное стрельбище. Сколько хлопот было, чтобы не дай бог не повернулся кто-нибудь с заряженным оружием в тыл огневого рубежа. Командиры отделений и даже офицеры заглядывали после стрельбы в патронники и заставляли делать контрольные спуски, подняв пустые автоматы в небо под углом в сорок пять градусов. А тут целят тебе в темечко, словно в тире, и ты уже наполовину мертв от цепенящего гипноза… Как в дурном сне. В ночных кошмарах надо вовремя вспомнить, что тебе это снится, вскрикнуть, шевельнуться… Кутырев рывком приткнул автомат к плечу, сковырнул предохранитель и, выставив ствол туда, откуда должна была прилететь последняя пуля, нажал на спуск… Он радостно поразился грохоту, который он натворил в этой стылой тишине, живому биению сработавшего механизма, алым всполохам в полуметре от глаза.
— Отползай! — прокричал откуда-то сбоку Суромин. — По вспышкам засечет!
И Кутырев резво засучил ногами, пополз, царапая лед бляхой ремня. Из-за валунов гахнул осторожный выстрел, но Кутырев его уже не боялся. Он замер метрах в десяти от Суромина, изготовился к стрельбе — благо пули летели не в сторону границы, но палить наобум не хотелось.
Так пролежали они четверть часа, пока не заныли от стужи колени.
— Дима! — окликнул Кутырев сержанта. — Может, подползем и с разных сторон!..
— Он тебе подползет. Лежи! Скоро наши подвалят. Зря не молоти! Бей только на отсечку.
Тот, за камнями, притих, видимо, берег патроны. Его убежище грозило обернуться ловушкой. Конечно же, он не станет ждать, когда сюда подрулят аэросани. Но все-таки на что-то надеется. На что?
Кутырев глянул на чуть посветлевший край неба и с ужасом понял, чего ждет тот, простреливший ему шапку. Рассвета! Они станут видны ему даже в самых серых предутренних сумерках. Он перебьет их, как тюленей на льдине.
Виктор выпростал из-под рукава мамин подарок, «Полет», — три часа. Если Небылица связался с заставой, то аэросани примчат минут через сорок. А если не связался? Атмосферные помехи? Да мало ли что?
Лежать на льду становилось невмоготу. Ноги совсем задубели, и холод, словно вода, пропитывал слой за слоем нетолстые кутыревские одежки. Ветер выдувал из рукавов остатки тепла, студил непокрытую голову. Мокрые от бега волосы смерзлись в сосульки. Надо бы поискать шапку… Кутырев лишь оторвал подбородок от приклада, как грянул выстрел. По щеке секануло ледяным крошевом — пуля клюнула возле плеча. Страшно захотелось ощупать свежую лунку.
Дело осложнялось теперь тем, что любое сколь-нибудь заметное движение выдавало их.
Ждать. Не шевелиться и ждать, пока за спиной не заревут воздушные винты…
Где-то он читал про пленного красноармейца, которого фашисты поливали водой на морозе, и тот силой самовнушения заставил себя поверить, что он изнемогает от жары, и даже парок закурился над его телом. Вспомнить бы, как пеклись они с Леной на сухумской гальке. После выпускных экзаменов родители увезли ее к морю, а он, вместо того чтобы готовиться в институт, тайком увязался за ними. «Случайно» встретил ее на набережной, и оба, нарадовавшись и наудивлявшись столь счастливому совпадению, отправились купаться. Раскаленные камешки пляжа испускали струистый жар, и чтобы прилечь, надо было поливать их водой.
Мама уверяла его в детстве, что человек, переспавший на сырой земле, на всю жизнь становится инвалидом, и запрещала садиться на траву без подстилки. Мама… Что-то она сейчас делает?.. В Москве сейчас вечер, вечер того самого дня, в котором каменьфазанцы безмятежно пребывали в жарко натопленном домике и предавались таким глупым раздорам. Вон лежит поодаль сержант Суромин, и нет теперь человека роднее и ближе его, потому что ни с кем другим Кутырев не делил еще такой страшной ночи, не лежал на ледяной плахе в ожидании прицельного по себе выстрела. И если им удастся выбраться отсюда живыми и невредимыми, то уж куда бы потом ни забросила их судьба, они все равно будут встречаться каждый год и вспоминать, как свистел ветер в высоких окольцованных автоматных мушках, как металась в камнях вражья тень, как предательски светлело небо.
А в Москве сейчас принаряженные горожане возносятся на эскалаторах к хлебам и зрелищам, спрашивают лишние билетики, ставят крестики в карточках спортлото, ничуть не подозревая, что из их шумных потоков исчезли два не самых плохих парня, и эти двое лежат на льду замерзшего озера, известного разве что географам, и сами постепенно превращаются в лед. И даже Ленка сидит, быть может, именно в эту самую минуту с каким-нибудь джинсовым хмырем и тянет через соломинку коктейль «Привет» или слушает с ним в пустой квартире «попсовую» музыку. Ведь не скажешь же ей на полном серьезе: «Только две весны, только две зимы ты в кино с другими не ходи».
Странное дело, Кутырев не испытывал никакой обиды ни на Лену, ни на тех праздных людей, которые беспечно предавались сейчас радостям жизни. Будто в его душе вместе с остатками тепла в груди вымерзли зависть, ревность, жадность, вымерзли и высыпались острыми кристалликами, и из их льдышек он теперь запросто мог сложить то слово, какое задала Снежная Королева своему пленнику, — «ВЕЧНОСТЬ»…
Он не слышал гортанного рокота аэросаней, не слышал хлопка и шипения осветительной ракеты, коротких потресков автоматных очередей…
Очнулся Кутырев от спиртового ожога во рту и, ощутив на миг душный запах овчины, тряску скорой езды, рев могучих моторов, забылся глубоко и надолго. Еще раз он пришел в себя, похоже, в госпитале, потому что пахло лекарствами, в глазах проплывали своды белых потолков, белые притолоки дверей; слегка потряхивало, его везли на высокой тележке, чей-то женский голос спрашивал: «Что с ним?», а мужской отвечал: «Гипотермия»… Кутырев хотел поправить: «Лихорадка скалистых гор», но язык и губы не шевелились…
Их положили в пустую многоместную палату, где стояли кровати с двумя матрасами на провально мягких панцирных сетках и тумбочки по одной на человека. Но, несмотря на всю эту роскошь, сержант Суромин требовал, чтобы его отправили к ребятам на заставу, так как он совершенно здоров и не собирается пролеживать зазря лучшие дни жизни. Он успокоился только утром, когда сестра высыпала ему на постель целый ворох накопившихся писем. Кутырев спал. Суромин аккуратно отсортировал почту его и свою. Двенадцать писем пришло «земеле» от матери, семь от сестры и одно — невесомо тонкое, с недавним штемпелем — от Лены. Поразмыслив, Суромин вынул его из стопки и спрятал под свой тюфяк — до лучших времен. Он знал по себе, что такие вот долгожданные и почти пустые на ощупь конверты опаснее неразорвавшихся гранат…
Зазвенела сетка, Кутырев заворочался — открыл глаза.
— Привет, Кутырек!
— Привет.
— Ну, как там твой Ингус поживает?
Кутырев вздернул брови. Вспомнил. Засмеялся.
— Нормально! Нос холодный — пес здоров.
- admin
- Сообщения: 961
- Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 12:52
- место службы:
Re: В пограничной полосе
ГОРЬ КОЗЛОВ ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ
ДАЛЕКИЕ ВСПОЛОХИ
1
С океанской стороны шла высокая, пенистая волна, и, спасаясь от ее могучей силы, липло почти к самому берегу рыболовецкое суденышко.
Оно изрядно надоело пограничникам островной заставы. Капитан Новиков в который раз поднялся на наблюдательную вышку.
— Признаков нарушения государственной границы не обнаружено, — с подчеркнутой солдатской лихостью доложил ему ефрейтор Мухин и, понимая интерес командира, уже доверительно добавил: — «Рыбачек» этот… все тут… бултыхается.
— Да-а-а… — медленно протянул начальник заставы так, что сразу и не поймешь: соглашается он или задает вопрос.
Новиков прильнул к окулярам оптического прибора. Резиновая бленда была теплой — видимо, Мухин только что оторвался от нее. Шхуна, окруженная перламутровым сиянием, проявилась в кружочке объектива четко, словно на переводной картинке. Судно стояло на якоре, волны бросали его, как поплавок, на палубе никого не было.
— Что? Так и не выходят? — спросил капитан.
— Изредка вылезают, — отозвался ефрейтор. — Посмотрят, понюхают… — Он немного помолчал, потом добавил: — Турнуть бы их отсюда!
Мухин был веселым парнем, на заставе его любили и солдаты и офицеры, поэтому иногда ефрейтор позволял себе говорить с командиром в таком тоне.
Но сейчас Новиков строго глянул на него и сухо произнес:
— Вы же знаете, иностранным судам разрешается в непогоду укрываться у наших островов.
— Знать-то знаю, а на нервы действует, — выдержав взгляд командира, в том же духе заявил ефрейтор.
На этот раз капитан усмехнулся.
— Продолжайте наблюдение. — Он кивнул и пошел к люку.
Ветер свистел, ударяясь о прутья вышки, прорывался в рукава и за воротник куртки. Вступив на землю, Новиков еще раз глянул в даль океана и по узкой тропинке, петляющей между острыми гранитными глыбами, неторопливо пошел к заставе. По дороге он все время думал об этой шхуне. Действительно, в ее поведении было что-то необычное, настораживающее. Хотя, с другой стороны, если посмотреть объективно: чего тут особенного? Налетел шторм, прижал судно к берегу. Куда же ему деваться?
С трудом открыв дверь, Новиков нырнул в парное тепло заставы. Тугая пружина, скрипнув, почти герметично закрыла помещение. Это «чудо техники» как-то привез с материка старшина. Сначала некоторые неповоротливые солдаты ворчали, получая от устройства солидный пинок в случае малейшей заминки на пороге. Но потом к нему привыкли и по достоинству оценили — ветер выл над островом почти круглый год.
Новиков прошел в канцелярию. Здесь за своим персональным столом, покрытым листом голубоватого плексигласа, сидел прапорщик Воропаев. Перед ним лежали толстые «амбарные книги», обернутые в яркие журнальные обложки. В них рачительный старшина вел учет хозяйству заставы. Каждый такой гроссбух отражал соответствующее направление: продовольственно-фуражное, вещевое, банно-прачечное, горюче-смазочное и т. д.
Воропаев, прикусив кончик языка, аккуратно переносил сведения из «оперативной бумажки» — так он называл замусоленный листок, на котором были сделаны одному ему понятные записи, — в очередной официальный кондуит. Увидев Новикова, старшина отложил ручку, с хрустом потянулся и лукаво спросил:
— Что-то ты все бегаешь, Михаил Петрович?
— Шхуна… — коротко ответил Новиков и подошел к висевшей на стене карте острова. — Какого черта она здесь на якорь стала? Шла бы в бухту, там спокойнее.
— Далась она тебе, — лениво отозвался Воропаев. — Ну стала и стала… Их дело. Вот придавит ее валом к скале — сразу поумнеют.
Новиков снова уставился на карту и задумчиво произнес:
— Может, у них двигатель сломался?
Старшина шумно отодвинул свое персональное кресло, подошел к начальнику заставы.
— Михаил Петрович, чего ты нервничаешь? На нашем острове, кроме заставы и маяка, никаких «стратегических» объектов нет. Шпионить здесь нечего. До материка отсюда никакой пловец не дойдет — утопнет. Логично?
— Так-то оно так. Но душа не спокойна. Понимаешь?
— Понимаю… Сходи в баньку, попарься — все как рукой снимет.
Новиков почти осуждающе покачал головой.
— Тебе бы, Сергей Иванович, попом быть, а не старшиной.
— Нет, — поджав губы, ответил Воропаев. — На той службе поститься нужно. А потом уж больно у них форма одежды несуразная…
* * *
Новиков зашел домой, чтобы взять белье и полотенце. Жена и дочка, чистенькие, румяные, в одинаковых пестрых косыночках, сидели за столом и пили чай с вареньем из жимолости. (По сложившейся на границе традиции первыми в банный день моются женщины и дети.)
— С легким паром, лапушки, — ласково сказал Новиков.
Одна «лапушка» улыбнулась, а вторая, облизав ложку, залепетала:
— Папа, там дед Макалыч с маяка плишел. Сказал, чтобы ты толопился. А то ему одному скусно купаться.
Когда Новиков вошел в предбанник, дед Макарыч химичил над тазиком, замешивая особое сусло для пара. Было в нем несколько компонентов: и квас, и какие-то травы, и даже медицинские препараты. Пар Макарыч создавал действительно бесподобный — легкий, ароматный.
— Что смурной? — спросил дед, взбивая сусло деревянной ложкой.
Новиков сел на скамейку, стянул сапоги, расстегнул ворот тужурки.
— Макарыч, видел… шхуна у скалы кувыркается?
— Ну? — Дед пронзительно глянул на Новикова из-под косматых бровей.
— Как думаешь, чего она в бухту не идет? Там же спокойнее.
— Заметил, — довольно хмыкнул дед. — А я как раз хотел тебе эту вводную подбросить.
Макарыч отодвинул тазик, подтянул подштанники и тоже сел на скамейку.
— Пусть настоится, — кивнул он на свой «раствор». Потом почесал клочковатую бороду и заявил: — Расскажу одну байку… Мы этот остров в сорок пятом штурмом брали. Я в осветительных войсках служил.
— Были такие? — усмехнулся Новиков.
— Не шути, — обиделся дед. — От нас многое зависело. Туман курился жуткий. С одной стороны хорошо — корабли незаметно подошли к острову. Но для успешной высадки нужно было установить на берегу световые ориентиры. Сам знаешь, какое здесь дно. Вот первый катер и выбросил группу автоматчиков, корректировщиков с радиостанциями и нас с ацетиленовыми фонарями. Помню, бултыхнулся за борт, а глубина — метра два. Фонарь поднял над головой и топаю под водой. Воздух кончается, в ушах звенит. Так хочется оттолкнуться от грунта и всплыть. Нельзя!.. Подмочишь технику — и хана! Всю операцию сорвать можно. Выбрались, значит, на урез. Установили свои лампады, бойцы вокруг нас круговую оборону заняли. Как врубили полный свет — тут все и началось! Сначала корабли артиллерийской поддержки огонь открыли, потом десантные суда пошли. Японцы поначалу опешили. Не ожидали они, что мы из такого мрака навалимся. А потом ощерились.
Дед поднял заскорузлый палец, сделал многозначительную паузу и затем сказал:
— Брали несколько рубежей обороны. Весь остров подземными галереями изрыт. В прошлом году, между прочим, я у самого маяка ржавый люк обнаружил… Наши саперы их тогда взрывчаткой рвали. Только к исходу дня гарнизон подавили. Мы, конечно, всю ночь светили — боялись, что японцы с соседнего острова свой контрдесант бросят. А когда луна выкатилась, аккурат из-под той самой скалы, напротив которой сейчас шхуна торчит, выскочил торпедный катер. И ушел. Наша батарея даже огонь открыть не успела. Откуда он взялся — не ясно! Ведь там сплошная гранитная стена.
Новиков помрачнел, на его щеках вспыхнули два маленьких красных пятнышка.
— Что же ты раньше об этом молчал? — резко спросил он.
— Ну, знаешь! У меня этих баек столько! Если все рассказывать, под завязку до самой выслуги лет слушать будешь.
— Все, дед, баня наша отменяется.
— Да ты что, Миша? Бальзам уже созрел. Давай окунемся, а потом уж командуй.
— Нет, собирайся. Покажешь этот люк.
— Язви тебя в душу! Рассказал на свою голову, — пробурчал Макарыч, но спорить не стал.
* * *
Макарыч шел впереди, раздвигая кустарник широкими движениями рук. Казалось, он плыл в море зеленых зарослей. За ним двигался небольшой отряд пограничников — в маскхалатах, касках, с полной боевой выкладкой.
Впереди маячил высокий красно-бурый обрыв. Подойдя к нему, Макарыч огляделся. В воздухе носились длинные цепкие паутинки, они задевали лицо, щекотали щеки и шею.
— Кажись, здесь, — сказал дед и оглушительно чихнул.
— Где? — нетерпеливо спросил Новиков.
Макарыч отогнул ветви кедрового стланика, и они увидели металлическую дверцу, наподобие тех, которыми на кораблях задраивают переборки.
Новиков подошел к люку, внимательно осмотрел. На краю дверцы была рычажная ручка. Капитан немного помедлил, потом надавил на нее. Ручка плавно опустилась вниз.
— Эхма! — удовлетворенно крякнул Макарыч. — Видал, как делают! Смазка — на века.
— Так… — глухо ответил начальник заставы и осторожно, не поворачиваясь, отошел от двери на три шага. Словно боялся, что из нее кто-то выскочит, а он не заметит этого. Наконец капитан оглянулся, смахнул со лба капли крупного серого пота.
Солдаты удивленно смотрели на своего командира: они еще не понимали ситуацию, они еще не предвидели его решение.
Новиков исподлобья глянул на Макарыча, медленно спросил:
— Значит, говоришь, японцы вас не ожидали?
— Ясное дело, — отозвался дед.
— Значит, надо полагать, контактные мины установить не успели?
— Похоже, так, — после некоторого раздумья ответил Макарыч. — Не помню, чтобы кто-то подрывался.
— Тогда будем открывать, — твердо сказал капитан. — Сержант Самокин!
— Я! — невысокий коренастый пограничник сделал шаг вперед.
— Доставайте веревку.
Сержант развязал вещмешок, вынул моток тонкого пенькового каната.
Новиков решительно подошел к люку, привязал конец к ручке и, разматывая канат, протянул его за каменистый бугор.
— Всем сюда. Укрыться, — приказал он. Пограничники и Макарыч залегли.
— Береженого бог бережет, — сказал капитан и резко дернул за веревку.
Было тихо. Новиков приподнял голову и увидел, что дверь открыта.
* * *
Прапорщик Воропаев остался на заставе за старшего. Сидеть в канцелярии было скучно, и он решил обойти «свои владения». Сначала Сергей Иванович заглянул в теплицу, работающую по его проекту от горячего источника. Здесь стоял особый, огородный дух. Радовали глаз алые помидоры, длинные голубоватые огурцы. Два солдата-первогодка в свободное от службы время с удовольствием копались в грядках. Заметив Воропаева, они засмущались, вытянули по швам испачканные землей руки.
— Вольно, — сказал Сергей Иванович, одобрительно кивнул и спросил: — Ну как? Нравится наше хозяйство?
— Так точно, — радостно ответил один из солдат, видимо, он был старшим в их маленькой бригаде. — У нас в колхозе тоже был парник, но ваш аккуратнее.
— То-то… В армии все должно быть аккуратнее.
Воропаев проверил показания приборов, дал распоряжения. Солдаты были смекалистые, понимали с полуслова, и Сергей Иванович еще раз убедился, что не ошибся, выбирая их из числа новобранцев.
Потом Воропаев пошел в баню. Как раз закончила мыться очередная смена. Солдаты растирали полотенцами розовые тела, ухали от удовольствия, оживленно переговаривались. Сергей Иванович усмехнулся, заметив у каждого из них на правом боку тонюсенький шрам. Это было нововведение медицинской службы — во избежание непредвиденных случаев на островные заставы преимущественно направлялся «контингент с вырезанным аппендиксом».
— Как пар? — поинтересовался Воропаев.
— Отличный, товарищ старшина!
В это время дверь в предбанник распахнулась — на пороге стоял дежурный.
— Товарищ прапорщик, сержант Самохин прибыл со срочным поручением от начальника заставы.
— Иду…
Придерживая на бедре элегантную флотскую кобуру с пистолетом, Воропаев побежал к заставе.
Самохин ждал его в канцелярии. По лицу сержанта Сергей Иванович понял: Новиков затеял что-то необычное.
— Докладывайте.
— Начальник заставы приказал скрытно доставить к маяку три катушки телефонного провода, запасные аккумуляторы к фонарям.
— Что там происходит?
— Мы обнаружили ход под скалу. Капитан Новиков решил его обследовать.
— А что, по рации нельзя связь держать?
Сержант замялся, потупился, потом пробормотал:
— Я тоже задал этот вопрос, а начальник заставы сказал, что у меня, наверно, по физике тройка была.
Воропаев хмыкнул, нажал кнопку селектора.
— А тебя зачем послали? — спросил он, отдав соответствующие указания. — Или у вас и на поверхности радиостанция не работает?
— Никак нет, — глядя в сторону, ответил сержант. — Начальник заставы приказал прекратить радиосвязь. Он считает, что на шхуне могут ее перехватывать.
«Ох, чудит Новиков, — раздраженно подумал Сергей Иванович. — Засиделся на острове. Оперативною простора ему не хватает. Решил под землю залезть. Ладно, пусть резвится…»
ДАЛЕКИЕ ВСПОЛОХИ
1
С океанской стороны шла высокая, пенистая волна, и, спасаясь от ее могучей силы, липло почти к самому берегу рыболовецкое суденышко.
Оно изрядно надоело пограничникам островной заставы. Капитан Новиков в который раз поднялся на наблюдательную вышку.
— Признаков нарушения государственной границы не обнаружено, — с подчеркнутой солдатской лихостью доложил ему ефрейтор Мухин и, понимая интерес командира, уже доверительно добавил: — «Рыбачек» этот… все тут… бултыхается.
— Да-а-а… — медленно протянул начальник заставы так, что сразу и не поймешь: соглашается он или задает вопрос.
Новиков прильнул к окулярам оптического прибора. Резиновая бленда была теплой — видимо, Мухин только что оторвался от нее. Шхуна, окруженная перламутровым сиянием, проявилась в кружочке объектива четко, словно на переводной картинке. Судно стояло на якоре, волны бросали его, как поплавок, на палубе никого не было.
— Что? Так и не выходят? — спросил капитан.
— Изредка вылезают, — отозвался ефрейтор. — Посмотрят, понюхают… — Он немного помолчал, потом добавил: — Турнуть бы их отсюда!
Мухин был веселым парнем, на заставе его любили и солдаты и офицеры, поэтому иногда ефрейтор позволял себе говорить с командиром в таком тоне.
Но сейчас Новиков строго глянул на него и сухо произнес:
— Вы же знаете, иностранным судам разрешается в непогоду укрываться у наших островов.
— Знать-то знаю, а на нервы действует, — выдержав взгляд командира, в том же духе заявил ефрейтор.
На этот раз капитан усмехнулся.
— Продолжайте наблюдение. — Он кивнул и пошел к люку.
Ветер свистел, ударяясь о прутья вышки, прорывался в рукава и за воротник куртки. Вступив на землю, Новиков еще раз глянул в даль океана и по узкой тропинке, петляющей между острыми гранитными глыбами, неторопливо пошел к заставе. По дороге он все время думал об этой шхуне. Действительно, в ее поведении было что-то необычное, настораживающее. Хотя, с другой стороны, если посмотреть объективно: чего тут особенного? Налетел шторм, прижал судно к берегу. Куда же ему деваться?
С трудом открыв дверь, Новиков нырнул в парное тепло заставы. Тугая пружина, скрипнув, почти герметично закрыла помещение. Это «чудо техники» как-то привез с материка старшина. Сначала некоторые неповоротливые солдаты ворчали, получая от устройства солидный пинок в случае малейшей заминки на пороге. Но потом к нему привыкли и по достоинству оценили — ветер выл над островом почти круглый год.
Новиков прошел в канцелярию. Здесь за своим персональным столом, покрытым листом голубоватого плексигласа, сидел прапорщик Воропаев. Перед ним лежали толстые «амбарные книги», обернутые в яркие журнальные обложки. В них рачительный старшина вел учет хозяйству заставы. Каждый такой гроссбух отражал соответствующее направление: продовольственно-фуражное, вещевое, банно-прачечное, горюче-смазочное и т. д.
Воропаев, прикусив кончик языка, аккуратно переносил сведения из «оперативной бумажки» — так он называл замусоленный листок, на котором были сделаны одному ему понятные записи, — в очередной официальный кондуит. Увидев Новикова, старшина отложил ручку, с хрустом потянулся и лукаво спросил:
— Что-то ты все бегаешь, Михаил Петрович?
— Шхуна… — коротко ответил Новиков и подошел к висевшей на стене карте острова. — Какого черта она здесь на якорь стала? Шла бы в бухту, там спокойнее.
— Далась она тебе, — лениво отозвался Воропаев. — Ну стала и стала… Их дело. Вот придавит ее валом к скале — сразу поумнеют.
Новиков снова уставился на карту и задумчиво произнес:
— Может, у них двигатель сломался?
Старшина шумно отодвинул свое персональное кресло, подошел к начальнику заставы.
— Михаил Петрович, чего ты нервничаешь? На нашем острове, кроме заставы и маяка, никаких «стратегических» объектов нет. Шпионить здесь нечего. До материка отсюда никакой пловец не дойдет — утопнет. Логично?
— Так-то оно так. Но душа не спокойна. Понимаешь?
— Понимаю… Сходи в баньку, попарься — все как рукой снимет.
Новиков почти осуждающе покачал головой.
— Тебе бы, Сергей Иванович, попом быть, а не старшиной.
— Нет, — поджав губы, ответил Воропаев. — На той службе поститься нужно. А потом уж больно у них форма одежды несуразная…
* * *
Новиков зашел домой, чтобы взять белье и полотенце. Жена и дочка, чистенькие, румяные, в одинаковых пестрых косыночках, сидели за столом и пили чай с вареньем из жимолости. (По сложившейся на границе традиции первыми в банный день моются женщины и дети.)
— С легким паром, лапушки, — ласково сказал Новиков.
Одна «лапушка» улыбнулась, а вторая, облизав ложку, залепетала:
— Папа, там дед Макалыч с маяка плишел. Сказал, чтобы ты толопился. А то ему одному скусно купаться.
Когда Новиков вошел в предбанник, дед Макарыч химичил над тазиком, замешивая особое сусло для пара. Было в нем несколько компонентов: и квас, и какие-то травы, и даже медицинские препараты. Пар Макарыч создавал действительно бесподобный — легкий, ароматный.
— Что смурной? — спросил дед, взбивая сусло деревянной ложкой.
Новиков сел на скамейку, стянул сапоги, расстегнул ворот тужурки.
— Макарыч, видел… шхуна у скалы кувыркается?
— Ну? — Дед пронзительно глянул на Новикова из-под косматых бровей.
— Как думаешь, чего она в бухту не идет? Там же спокойнее.
— Заметил, — довольно хмыкнул дед. — А я как раз хотел тебе эту вводную подбросить.
Макарыч отодвинул тазик, подтянул подштанники и тоже сел на скамейку.
— Пусть настоится, — кивнул он на свой «раствор». Потом почесал клочковатую бороду и заявил: — Расскажу одну байку… Мы этот остров в сорок пятом штурмом брали. Я в осветительных войсках служил.
— Были такие? — усмехнулся Новиков.
— Не шути, — обиделся дед. — От нас многое зависело. Туман курился жуткий. С одной стороны хорошо — корабли незаметно подошли к острову. Но для успешной высадки нужно было установить на берегу световые ориентиры. Сам знаешь, какое здесь дно. Вот первый катер и выбросил группу автоматчиков, корректировщиков с радиостанциями и нас с ацетиленовыми фонарями. Помню, бултыхнулся за борт, а глубина — метра два. Фонарь поднял над головой и топаю под водой. Воздух кончается, в ушах звенит. Так хочется оттолкнуться от грунта и всплыть. Нельзя!.. Подмочишь технику — и хана! Всю операцию сорвать можно. Выбрались, значит, на урез. Установили свои лампады, бойцы вокруг нас круговую оборону заняли. Как врубили полный свет — тут все и началось! Сначала корабли артиллерийской поддержки огонь открыли, потом десантные суда пошли. Японцы поначалу опешили. Не ожидали они, что мы из такого мрака навалимся. А потом ощерились.
Дед поднял заскорузлый палец, сделал многозначительную паузу и затем сказал:
— Брали несколько рубежей обороны. Весь остров подземными галереями изрыт. В прошлом году, между прочим, я у самого маяка ржавый люк обнаружил… Наши саперы их тогда взрывчаткой рвали. Только к исходу дня гарнизон подавили. Мы, конечно, всю ночь светили — боялись, что японцы с соседнего острова свой контрдесант бросят. А когда луна выкатилась, аккурат из-под той самой скалы, напротив которой сейчас шхуна торчит, выскочил торпедный катер. И ушел. Наша батарея даже огонь открыть не успела. Откуда он взялся — не ясно! Ведь там сплошная гранитная стена.
Новиков помрачнел, на его щеках вспыхнули два маленьких красных пятнышка.
— Что же ты раньше об этом молчал? — резко спросил он.
— Ну, знаешь! У меня этих баек столько! Если все рассказывать, под завязку до самой выслуги лет слушать будешь.
— Все, дед, баня наша отменяется.
— Да ты что, Миша? Бальзам уже созрел. Давай окунемся, а потом уж командуй.
— Нет, собирайся. Покажешь этот люк.
— Язви тебя в душу! Рассказал на свою голову, — пробурчал Макарыч, но спорить не стал.
* * *
Макарыч шел впереди, раздвигая кустарник широкими движениями рук. Казалось, он плыл в море зеленых зарослей. За ним двигался небольшой отряд пограничников — в маскхалатах, касках, с полной боевой выкладкой.
Впереди маячил высокий красно-бурый обрыв. Подойдя к нему, Макарыч огляделся. В воздухе носились длинные цепкие паутинки, они задевали лицо, щекотали щеки и шею.
— Кажись, здесь, — сказал дед и оглушительно чихнул.
— Где? — нетерпеливо спросил Новиков.
Макарыч отогнул ветви кедрового стланика, и они увидели металлическую дверцу, наподобие тех, которыми на кораблях задраивают переборки.
Новиков подошел к люку, внимательно осмотрел. На краю дверцы была рычажная ручка. Капитан немного помедлил, потом надавил на нее. Ручка плавно опустилась вниз.
— Эхма! — удовлетворенно крякнул Макарыч. — Видал, как делают! Смазка — на века.
— Так… — глухо ответил начальник заставы и осторожно, не поворачиваясь, отошел от двери на три шага. Словно боялся, что из нее кто-то выскочит, а он не заметит этого. Наконец капитан оглянулся, смахнул со лба капли крупного серого пота.
Солдаты удивленно смотрели на своего командира: они еще не понимали ситуацию, они еще не предвидели его решение.
Новиков исподлобья глянул на Макарыча, медленно спросил:
— Значит, говоришь, японцы вас не ожидали?
— Ясное дело, — отозвался дед.
— Значит, надо полагать, контактные мины установить не успели?
— Похоже, так, — после некоторого раздумья ответил Макарыч. — Не помню, чтобы кто-то подрывался.
— Тогда будем открывать, — твердо сказал капитан. — Сержант Самокин!
— Я! — невысокий коренастый пограничник сделал шаг вперед.
— Доставайте веревку.
Сержант развязал вещмешок, вынул моток тонкого пенькового каната.
Новиков решительно подошел к люку, привязал конец к ручке и, разматывая канат, протянул его за каменистый бугор.
— Всем сюда. Укрыться, — приказал он. Пограничники и Макарыч залегли.
— Береженого бог бережет, — сказал капитан и резко дернул за веревку.
Было тихо. Новиков приподнял голову и увидел, что дверь открыта.
* * *
Прапорщик Воропаев остался на заставе за старшего. Сидеть в канцелярии было скучно, и он решил обойти «свои владения». Сначала Сергей Иванович заглянул в теплицу, работающую по его проекту от горячего источника. Здесь стоял особый, огородный дух. Радовали глаз алые помидоры, длинные голубоватые огурцы. Два солдата-первогодка в свободное от службы время с удовольствием копались в грядках. Заметив Воропаева, они засмущались, вытянули по швам испачканные землей руки.
— Вольно, — сказал Сергей Иванович, одобрительно кивнул и спросил: — Ну как? Нравится наше хозяйство?
— Так точно, — радостно ответил один из солдат, видимо, он был старшим в их маленькой бригаде. — У нас в колхозе тоже был парник, но ваш аккуратнее.
— То-то… В армии все должно быть аккуратнее.
Воропаев проверил показания приборов, дал распоряжения. Солдаты были смекалистые, понимали с полуслова, и Сергей Иванович еще раз убедился, что не ошибся, выбирая их из числа новобранцев.
Потом Воропаев пошел в баню. Как раз закончила мыться очередная смена. Солдаты растирали полотенцами розовые тела, ухали от удовольствия, оживленно переговаривались. Сергей Иванович усмехнулся, заметив у каждого из них на правом боку тонюсенький шрам. Это было нововведение медицинской службы — во избежание непредвиденных случаев на островные заставы преимущественно направлялся «контингент с вырезанным аппендиксом».
— Как пар? — поинтересовался Воропаев.
— Отличный, товарищ старшина!
В это время дверь в предбанник распахнулась — на пороге стоял дежурный.
— Товарищ прапорщик, сержант Самохин прибыл со срочным поручением от начальника заставы.
— Иду…
Придерживая на бедре элегантную флотскую кобуру с пистолетом, Воропаев побежал к заставе.
Самохин ждал его в канцелярии. По лицу сержанта Сергей Иванович понял: Новиков затеял что-то необычное.
— Докладывайте.
— Начальник заставы приказал скрытно доставить к маяку три катушки телефонного провода, запасные аккумуляторы к фонарям.
— Что там происходит?
— Мы обнаружили ход под скалу. Капитан Новиков решил его обследовать.
— А что, по рации нельзя связь держать?
Сержант замялся, потупился, потом пробормотал:
— Я тоже задал этот вопрос, а начальник заставы сказал, что у меня, наверно, по физике тройка была.
Воропаев хмыкнул, нажал кнопку селектора.
— А тебя зачем послали? — спросил он, отдав соответствующие указания. — Или у вас и на поверхности радиостанция не работает?
— Никак нет, — глядя в сторону, ответил сержант. — Начальник заставы приказал прекратить радиосвязь. Он считает, что на шхуне могут ее перехватывать.
«Ох, чудит Новиков, — раздраженно подумал Сергей Иванович. — Засиделся на острове. Оперативною простора ему не хватает. Решил под землю залезть. Ладно, пусть резвится…»