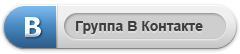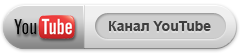ВАЛЕНТИНА ГОЛАНД
ЭТИ ПЯТЬ ЛЕТ
Очерк
Старший лейтенант Миско получил новое назначение. Оно никаких особых преимуществ ему не давало. Был начальником на одной заставе, перевели начальником на другую. И все.
Само по себе событие это рядовое — обычная для молодого офицера ответственность за судьбы людей и участок границы. Но Миско посылали на заставу, самую отстающую, отсылали с его первой заставы, а в сердце ее не заменишь, как первую любовь.
Он недоумевал, почему выбор пал именно на него. Есть и более опытные офицеры. Недоумевал и ответа не находил. Однако приказ есть приказ, и, привычно собрав чемодан, Миско переехал с семьей на новое место службы.
Новая застава — все равно что новая жизнь. Начинать нужно с нуля, со знакомства с людьми, границей. Как сложатся отношения с подчиненными? Характеры разные, что ни человек — загадка. Приглядывайся, изучай.
Но пришлось начинать с другого: в тылу участка перевернулась колхозная машина с людьми.
...Еще издалека Миско увидел перевернутый колесами вверх грузовик, разбросанные молочные бидоны, разбитые борта, щепу, а когда ближе подъехал:— раненых. Первым бросился в глаза мальчик с закрытыми глазами. Тоненькая струйка крови стекала от виска к подбородку.
Он выскочил из машины, бросился к мальчику, бережно взял его на руки и отнес на сиденье «газика».
— В районную больницу! Быстро! — приказал он шоферу.
Рядом с ребенком посадил пограничника, посмотрел вслед удаляющейся машине и горестно покачал головой — мальчик был плох. Точно так много лет назад по пути в школу был сбит машиной родной брат. Точно так он, безвольный и недвижимый, лежал на дороге. Нелепая и жестокая смерть...
Потом, когда грузовик поставили на колеса, собрали разбросанные бидоны, а люди немного пришли в себя, колхозники, прибывшие к месту аварии, обступили старшего лейтенанта, благодарили, каждый старался пожать ему руку, а старая колхозница в фартуке даже за плечи обняла,
— Дай тебе бог счастья, сынок,— пожелала она.
Стало жарко глазам под очками. Миско не снимал их. Ему было неловко от избыточного внимания, от слов похвалы, казавшейся незаслуженной, потому что он и его солдаты просто исполняли человеческий долг. Вот с этого началась служба на новом месте. С той поры минуло всего лишь полгода, а старший лейтенант чувствует здесь себя так, словно давным-давно живет по соседству с колхозниками, не просто как сосед — ближе, роднее.
Говорят, новая метла чище метет. Может, пословица эта и справедлива.
Но Миско не демонстрировал на новой заставе каких-то своих особых методов воспитания, оставался самим собой и службу начал ровно, спокойно, что, видно, понравилось людям.
Приглядывались к нему, присматривался он. Пытался понять, почему его предшественник развалил дело — почти небывалый случай в пограничных войсках, почему тот наталкивался на молчаливое сопротивление солдат, почему сам был неровен в отношениях с ними и груб? И наконец, почему не мог своим командирским авторитетом поддерживать в подразделении уставные порядки?.. Многое приходило на ум, всякое в голову лезло. В одном Миско был убежден твердо: если лишь слепо выполнять букву устава, быть формалистом — на этом далеко не уедешь. С предшественником так и случилось.
На память пришла фраза, невзначай брошенная солдатом: «Дело не в уставе, а в том, как подходить к нему!»
Грамотные нынче пошли солдаты.
Устав... В нем вся жизнь военного человека. Расписана до мелочей. Подъем, отбой. Служба. За проступок — наказание. За усердие — поощрение. За геройство — награда. Все предусмотрено, все имеет свои измерения. Выходит, и думать не нужно? Живи, командир, за уставом, как за каменной стеной.
Миско, конечно, уважал уставы и наставления, строго выполнял их сам и того же требовал от подчиненных. Но знал: механическое выполнение уставных правил — формальность. Нужно и душу вкладывать, молодого задора и огонька добавлять, видя в уставах высшую человеческую справедливость, синтез воинской мудрости и боевого опыта...
Все дело в том, какой ты человек, начальник заставы, как оцениваешь явления, какие горизонты раздвигаешь перед людьми, какие ставишь задачи. Вот так, товарищ Миско! Здесь, на пограничной заставе, устав начинается с тебя.
...Он только прикоснулся к подушке и сразу уснул, чтобы через четыре часа вскочить и вновь окунуться в дела. Его никто не будил. Научился вставать в нужное время. Был один из будничных дней, такой, как вчера, позавчера и много дней назад. Быстро умывшись под рукомойником и еще быстрее одевшись, старший лейтенант взял в руки фуражку.
— Леня,— окликнула жена.— А завтракать?
— Потом забегу,— ответил он от двери.
А еще через минуту отдавал боевой приказ на охрану границы, выждал, пока наряд отправился по заданному маршруту и скрылся за поворотом. Дел было много, но Миско не проявлял торопливости. Со стороны казалось, будто старший лейтенант «тянет время», проверяя внутренний порядок на заставе, заглядывает в спальни, подолгу осматривает оружие.
Но так лишь казалось. Все было рассчитано до минуты. Ровно без двух семь вошел в канцелярию, успел заглянуть в распорядок дня, и тут постучали в дверь.
— Да, войдите.
Вошли рядовые Стрельцов и Петров, оба в рабочих робах, вытянулись, руки «по швам».
— Прибыли за получением задачи, товарищ старший лейтенант,— доложил Петров.
— Выспались?
— Так точно.
— Позавтракали?
— Нормально, товарищ старший лейтенант.
Парни выглядели хорошо отдохнувшими.
— Вот и отлично! — сказал Миско.— Сегодня на тракторе обработаете левый фланг участка. У мостка в низинке будет трудно, но обязательно сделайте возможное. Вот и вся задача. Поняли?
— Так точно,— ответили вместе.
— Отправляйтесь.
Оба крепенькие, как боровички, солдаты вышли из канцелярии, прошли через двор, а несколько секунд спустя взревел мотором трактор и пошел со двора. Миско был уверен: пограничники выполнят задание на совесть.
Застава — маленький боевой коллектив. Очень важно суметь войти в него, войти в жизнь каждого не напролом, а чтобы тебя туда охотно впустили. Кажется, ему удалось добиться этого. Хотя бы на примере тех же Стрельцова и Петрова. Что движет их действиями? Конечно же чувство долга за порученное дело, стремление видеть родную заставу в числе лучших и — старший лейтенант это угадывал каким-то шестым чувством — стремление не подвести командира.
В душе Миско ощущал чувство неудовлетворенности, ему сдавалось, что дело еще не продвинулось вперед настолько, чтобы можно было самому себе хотя бы сказать: «Вот, наконец, и видны плоды твоих усилий». Но перелом был очевидным, перелом к лучшему — у людей появилось чувство ответственности за честь заставы, они с полной отдачей сил готовились к итоговой проверке.
Даже не выглядывая из окна, Миско знал, что где происходит в эти минуты. На плацу отделение пограничников отрабатывает строевые приемы. На стрельбище сержант Дымочка тренирует отстающих...
Он вышел на плац, постоял немного, наблюдая за ходом занятий.
Тут его помощь была не нужна. Сержант, руководивший занятиями, знал свое дело.
На стрельбище то и дело трещали автоматные очереди, падали, как бы проваливались вниз, грязно-зеленого цвета мишени. Когда пришел на огневой рубеж и осведомился у сержанта о качестве стрельбы, тот коротко, с трудом подавляя довольную улыбку, раздвигавшую ему губы, сказал:
— Нормально, товарищ старший лейтенант.— И тут же сделал замечание солдату, распластавшемуся на огневом рубеже: — Без спешки! Не рвите, времени хватит.
Миско смотрел на ловкие, старательные действия солдат, и сердце полнилось теплотой к ним, чувством уважения. Да, уважения, другого определения этому чувству он не нашел. А сержанту сказал:
— Молодец, товарищ Дымочка! Мне нравится ваша инициатива. Меняйте скорость перемещения мишеней, кто бьет метко — увеличьте дистанцию.
Обратно на заставу возвращался в приподнятом настроении. «Не надо особо привередничать»,— думал он. Дела идут нормально, как привыкли говорить на заставе, будем потихоньку еще лучшего добиваться. В голове зрел план строительства нового, каменного, здания заставы вместо старого, деревянного. Он не сомневался, что такое дело по плечу солдатам. Да и колхоз вызвался помочь кое в чем.
Он уже подходил к заставе, когда неожиданно увидел колхозного бригадира.
— А я только о вас подумал, — признался Миско.
— Не приходите в гости, то хоть думаете,— улыбнулся бригадир.— И то хорошо.
— Все некогда. Но зайду обязательно. В ближайшие дни зайду.
— А строиться когда будете? — спросил бригадир, когда вошли на заставский двор.
— Где-нибудь летом,— ответил Миско.— А вы к нам по делу?
Вошли в канцелярию. Бригадир поставил на стол огромную банку меда.
— Вот... принес вам,— застеснялся он.— Пускай жена с детишками побалуется.
Миско ответил не сразу. Снял с себя шинель и фуражку, повесил на место, протер запотевшие стекла очков. Сейчас он удивительно был похож на сельского учителя на исходе долгого рабочего дня. Близоруко смотрели серые большие глаза, а сходство с учителем как бы подчеркивали движения длинных пальцев, протиравших очки.
— За мед спасибо,— сказал он и, не надевая очков, улыбнулся.— Только у нас говорят: «Мед не сладок, коль ешь один». Давайте вместе отнесем его в столовую. Солдаты рады будут подарку. Милое дело — медок к горячему чаю.
— А верно,— согласился бригадир.— Пойдем.
...Через час Миско встретил в коридоре рядового Савичева, солдата по первому году службы. Взъерошенный, осунувшийся, солдат поджидал офицера. «Ну и тощ»,— подумал старший лейтенант. И тут же себя успокоил: через полгода окрепнет и возмужает, нальется силой.
— Меня ждете, Савичев? — спросил он.
— Так точно,— после паузы ответил солдат, глядя на офицера воспаленными глазами.
«Опять что-то произошло. Или где-то болит,— подумал Миско, пропуская в канцелярию Савичева и входя за ним.— Всегда у него болит. Любит, наверное, отлынивать...»
Но тут же остановил себя. Мягкая покорность, виноватый взгляд воскресили в памяти давний случай.
Выслали однажды Савичева на службу, доверив быть старшим наряда. Надо было дойти до стыка с соседней заставой по нелегкой дороге, ночью. Путь предстоял неблизкий. Шли долго, и на Савичева навалилась усталость, одеревенели ноги. Он позволил себе присесть, чтобы немного передохнуть. И тут же, в доли секунды, мгновенно задремал. Не подоспей младший наряда, кто знает, чем бы окончилось.
Возвратясь со службы, Савичев вот так, как сейчас, молча стоял перед офицером, потупившись, ожидая взыскания.
Тогда можно было наказать строго, чтобы не было повадно другим, даже отправить на гауптвахту. Но Миско от взыскания воздержался. Пускай сам себя судит, решил он. Высшим судом он всегда считал суд собственной совести. И стал с тех пор солдат примерно служить.
И вот — на тебе!
— Нездоровится, Савичев? — спросил мягко.
— Да, товарищ старший лейтенант.
— Не вовремя,— как бы про себя промолвил Миско, размышляя.- Видно, слова эти у него сорвались случайно.— Ладно, болезнь не спрашивает. Отправляйтесь в санчасть. В 13.00 «газик» в отряд пойдет.
— Спасибо, товарищ старший лейтенант,— тихо проговорил солдат.
Миско удивился:
— За что?
— Что поверили... Вот увидите, вернусь, еще лучше стану служить...
День был на исходе. Восьмой час кряду на полосе урчал трактор, и Миско понимал: до окончания работы парни не возвратятся домой, на заставу. И был спокоен. Лишь вызвал старшину и распорядился относительно обеда.
Восьмой час Стрельцов и Петров утюжили контрольно-следовую полосу. Ровный металлический гул отдавался в голове. Петров вел машину и сам себе намечал рубежи: «Дойду до того прогона, а там отдохнем». Но «доходил» до «того» и еще одного прогона, начинал третий, еще...
Потемнела со спины роба. Парень чувствовал, как она прилипла к нему, но работу не прекращал, покуда не увидал спешивший к ним «газик». И раньше, до прибытия на заставу старшего лейтенанта Миско, ребятам приходилось допоздна задерживаться на полосе. Ио обед сюда привезли им впервые.
...И опять урчал трактор, следовал прогон за прогоном, был близок мостик в низинке. Петров остановил машину, спрыгнул на землю, и она чавкнула под ногами. «Старший лейтенант просил,— вспомнил он,— здесь особенно внимательно поработать». После дождей земля здесь была чересчур влажной, выждать бы, пока высохнет. Но старший лейтенант просил...
Дотемна над границей катился гул двигателя.
Чумазые парни быстро умылись, переоделись — старший лейтенант нерях не терпел.
— Ваше приказание выполнено! — доложил Петров, стоя рядом с напарником.— Правда, в низинке не особенно получилось, мокрядь, вода стоит.
У Миско потеплели глаза.
— Подсохнет, еще раз пройдетесь. Правда?
— Так точно, товарищ старший лейтенант. Сделаем, чтоб был порядок.
— Благодарю за работу! — вскинул руку Миско.
Ребята недоуменно переглянулись.
— Я что-нибудь не так сказал? — удивился Миско.
— За работу нас никогда не благодарили,— смущенно отозвался Стрельцов.— Непривычно.
«Привыкайте»,— подумал офицер. Но вслух ничего не сказал.
Когда солдаты ушли, ему вспомнился случай двадцатилетней давности. Тогда ему впервые в жизни сказали «спасибо» за исполненную работу. Было это в детдоме, куда после гибели отца и смерти матери определили их с братом.
...Ему поручили вымыть полы в большой спальне. До этого никогда раньше полы он не мыл, не знал, как это делается. Но принес ведро воды, тряпку, опустился на колени и стал теперь половицу за половицей. Полдня тер, взмок весь, с лица скатывались и шлепались в воду градины пота.
— Ах, какой ты молодец, Леня! — похвалила тогда воспитательница.— Ей богу, молодец! Спасибо тебе.
Он стоял перед нею, вытянув руки вдоль тела, и смотрел счастливыми глазами в лицо воспитательницы. Потом весь день до отбоя чувство счастья не покидало его. Он не переставал удивляться: «Все здесь такое же, как вчера: и стены, и коридоры, и полы, и ребята не изменились. А я какой-то другой. Почему никто не замечает моего состояния?..»
И вот прошло двадцать лет, а он до сих пор помнит то короткое «спасибо». Крепко врезалась в память благодарность доброй и ласковой воспитательницы. Где бы ни был потом — в ремесленном училище, в армии, ка границе ли,— «спасибо» было в его устах похвалой за доброе дело, помогало воспитывать пограничников. Впрочем, пограничником он сам стал всего лишь пять лет назад.
...Пять лет назад он прибыл на заставу, весьма смутно представляя себе специфику службы. В первый же день приезда поднялся пораньше — обещал приехать начальник отряда,— пришел на заставу, а там ни живой души, кроме дежурного. Непривычная тишина вокруг. «А где же люди?» — спросил у дежурного. «Кто на границе, кто отдыхает после службы»,— ответил тот. «А занятия когда?!»
Думал, здесь такие же порядки, как в других частях: с утра — занятия, после обеда — занятия. А тут, оказывается, служба на первом плане.
Пришлось наново все постигать. Миско учился пограничному мастерству у своего начальника заставы Рачкова, не стеснялся спрашивать у сержантов. Но и сам мог кое-чему научить — служба в Советской Армии дала ему многое. Он, например, был отличным стрелком. Еще первый его командир взвода говаривал: «Солдат тогда научится хорошо стрелять, когда у вас брюки на коленках изотрутся».
Миско не жалел коленей. В тот же год на проверке застава Рачкова получила за стрельбу высшую оценку.
И все-таки он тогда неуверенно себя чувствовал на границе, многого не понимал, трудно давалась та самая пограничная специфика, над которой он вначале лишь посмеивался в душе — дескать, какая уж там специфика?! Оказывается, была она, сложная, многогранная. Незаметная каждодневная работа требовала усиленного внимания к кажущимся мелочам...
Теперь, пять лет спустя, Миско понимал, что, впервые надев фуражку с зеленой тульей, он, тогда младший лейтенант, еще не стал пограничником. Он стал им потом, научившись воспитывать в людях уважение к службе и ответственность за порученное дело. Не просто заученно, автоматически исполнять обязанности, а исполнять с любовью и с огоньком. Апатия, равнодушие пугают его и сейчас гораздо больше, чем дисциплинарный проступок.
Он еще сейчас не знает, как у него пойдут дела дальше — это зависит и от него, и от офицеров, его помощников, и от солдат. Видимые успехи пока не давали оснований для особых восторгов. В одном лишь была твердая убежденность: его приняли на новой заставе, коллектив верит в своего командира.
...Теперь старший лейтенант Миско, пожалуй, догадывался, почему именно его послали начальником на эту заставу.
Всегда на страже (очерки, рассказы, повести)
- pogranec
- Администратор
- Сообщения: 3389
- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38
- место службы: Республика Беларусь
- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с
- Контактная информация:
Re: Всегда на страже (очерки, рассказы, повести)
"Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе... и тем кто сделал к ней первой шаг..."
- pogranec
- Администратор
- Сообщения: 3389
- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38
- место службы: Республика Беларусь
- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с
- Контактная информация:
Re: Всегда на страже (очерки, рассказы, повести)
МИКОЛА РАКИТНЫЙ
ВСТРЕЧА
Рассказ
Это были обычные практические занятия.
На заставе такие занятия проводились регулярно, и теперь капитан Лагутин был вполне уверен, что ему ни перед кем — ни за себя, ни за своих подчиненных — краснеть не придется. Да что краснеть! Взять хотя бы сержанта Гимаева. Он, Лагутин, даже хотел вот что сделать: вывести на занятия самое, на его взгляд, малоопытное отделение. Но в последний момент мысль его остановилась на отделении сержанта Гимаева. Из штаба погранотряда сообщили, что на заставу выехал проверяющий из Москвы. И хотя в штабе знали, что проверяющий едет не к кому-нибудь иному, а к Лагутину, все же сочли необходимым предупредить его.
Это было всего два часа назад. А сейчас они, начзаставы Лагутин и проверяющий, моложавый, ловко сложенный генерал (капитану и в голову не приходило, что к нему может нагрянуть генерал),— стояли на высокой, оснеженной, с тремя соснами горе, откуда все видно было, как на ладони. На условно обозначенной границе, проходящей по старому, давно уже не езженному шляху, вот-вот должны были показаться «нарушители», а за ними — «пограничный наряд».
Стоял тихий, безветренный мартовский день. Ночью слегка натрусило свежим снежком, и теперь он, словно радуясь тому, что лег на землю, весело искрился на солнце. Вокруг не слышно было ни звуков, ни шорохов. Только откуда-то из поселка время от времени доносился звон кузнечного молота, еще больше подчеркивавший молчаливость зимнего дня.
«Что-то медлишь, Гимаев»,— подумал Лагутин. Раз за разом он поднимал бинокль и подолгу глядел на шлях, на котором никто не показывался.
Генерал, заложив руки за спину, прохаживался взад-вперед.
— Вы давно на границе, капитан?
Лагутин насторожился, но тут же отрапортовал:
— Пятый год, товарищ генерал.
— Родом откуда?
— С юга, из Пятигорска.
— Там уже весна...
— Весна, товарищ генерал.
— Пятигорск!.. Гора Машук. Лермонтов...— Генерал нагнулся, взял горсть снега и начал лепить снежок.— Давно хотел побывать там, проехать по Военно-Грузинской дороге... Со школьных лет еще... Не выпадает... Был в Софии, Берлине, Мукдене, даже в Токио! А вот Кавказ...
— Бывать не довелось?
— Да... Ваши люди, капитан! ~ Генерал бросил снежок и взял у Лагутина бинокль.
Генерал не ошибся. Трое пограничников, переодетые в гражданское, пробирались через молодой березник к шляху. Начзаставы Лагутин даже и без бинокля мог в каждом из них узнать своих ребят. Но по тому, как они делали короткие перебежки, прятались за пни и, оглядевшись, двигались дальше к границе, у Лагутина поднималось то острое, давно знакомое ему чувство, которое испытывал он при каждом настоящем нарушении границы.
Ему хотелось побыстрее увидеть свой пограничный наряд, который бы принял самые решительные меры по задержанию нарушителей.
Но «нарушители» уже были почти на «границе». Когда последний из них, пригибаясь, пулей перелетел через шлях и упал в снег, генерал засмеялся:
— Чистая работа!..
Как было правильно понять эти слова и смех генерала? В них, как показалось Лагутину, кроме похвалы была и насмешка: что ж, считай, что «граница» уже нарушена. А где же твой наряд, капитан? Не вижу!.. Лагутин промолчал. Сделал вид, что этого не заметил. Он знал, что «наряд» давно с «нарушителей» не сводит глаз, и то, что проверяющий покуда не замечает его, Лагутина даже радовало.
— Маневр, товарищ генерал,— наконец сказал капитан.— Маневр при групповом нарушении. Если нарушители идут группой, они, безусловно, вооружены. Поэтому лучше всего выводить их ка открытое место и... действовать. Вот так и с этими — дальше вон той просеки им не пройти...
Генерал направил бинокль в ту сторону, куда показал начзаставы. За шляхом, между зарослями и густым молодым сосняком, неширокой полосой проходило поле. Оно, как раз поперек, пересекало дорогу «нарушителям», которые, сойдясь, были уже на выходе из кустарника и, видно, советовались, как им перескочить это открытое опасное место.
Где же пограничники? Отведя взгляд от «нарушителей», генерал повел биноклем в сторону и вдруг сделал шаг вперед. Возле кустарника, слева, он заметил белую в маскхалате фигуру. Короткими рассчитанными скачками она передвигалась от куста к кусту, на открытых местах зарывалась в снег и спустя мгновение показывалась уже в совершенно другом месте.
— Настоящий пограничник! Пошел наперерез. По-пластунски... Вы замечаете, капитан? — Генерал, не отрывая взгляда от пограничника, передал бинокль Лагутину. На возбужденном лице его светилась скупая довольная улыбка.
Пограничник, почти сливаясь со снегом и оставляя за собой глубокий след, полз уже через поле к густому сосняку.
— Ефрейтор Рудницкий,— сообщил Лагутин.
— Как вы сказали? Рудницкий?
— Ефрейтор Рудницкий, товарищ генерал.
— Знакомая фамилия. Рудницкий...
В этот момент пошли «нарушители». Видно, не особенно надеясь на глухую тишину сосняка, который одновременно был и спасением им, и самым удобным местом для засады пограничников, они, двое вместе — третий пока оставался в кустарнике,— оглядываясь, торопливо направились через поле. Когда до леса оставались уже считанные шаги, «нарушители» не выдержали и бросились бежать. Казалось, одна минута — и все они спрячутся в лесу. Но в это время навстречу им стремительно выскочили два пограничника, держа наготове оружие...
Двое сдались. Что касается третьего — тот, ища спасения, попытался повернуть обратно в кусты, но и ему не повезло: перед ним: будто из-под земли выросла кряжистая фигура сержанта Гимаева.
Все было кончено.
Лагутин знал, что скажет генерал. Он посматривал на своих пограничников, которые все вместе, и «нарушители» и «наряд», строем уже шли к горе, и втайне следил за лицом проверяющего.
Генерал был доволен.
— Значит, выводить на открытое место? — сказал он и улыбнулся, видно, находясь еще под впечатлением увиденного.
— Так подсказывает опыт, товарищ генерал,— ответил Лагутин.
— Отлично, отлично действовали. Одни и другие... Главное — школа. Чувствуется настоящая школа погранслужбы. Молодцы ребята!..
Генерал сказал то же самое и пограничникам, когда они поднялись на гору и стояли перед ним в молчаливом строю. Молодые, раскрасневшиеся и возбужденные, они будто были недовольны тем, что занятия окончились так быстро. Обычно после занятий был разбор. Его всегда проводили или Гимаев, или сам начзаставы. На этом разборе уже теоретически разрабатывались отдельные приемы перебежек, маскировки, применения оружия... И если получалась какая-нибудь мелкая, даже незначительная ошибка, допущенная на занятиях, все повторялось...
Сейчас же перед строем стоял генерал. Он говорил об особенностях пограничной службы, о той большой и ответственной миссии, которая поручена им, пограничникам, по охране рубежей советской Родины.
— Вы, пограничники, передние на переднем крае. Вы — бессменный часовой нашей земли,— закончил генерал.
И когда за отличную службу он объявил пограничникам благодарность, строй, словно это было не отделение, а рота в полном составе, откликнулся:
— Служим Советскому Союзу!
Дальше были те законные минуты, которые на солдатском языке называются — перекур. Ясный погожий день настраивал солдат на веселые шутки, подталкивал схватиться и покачаться по снегу, но присутствие генерала не позволяло этого.
— А за вами я следил, товарищ ефрейтор,— сказал генерал, подойдя к рослому, белобровому пограничнику.— Вы идете под снегом все равно, как крот. Да куда там крот!..
Это был ефрейтор Рудницкий. Он только что собирался закурить. Не успев спрятать портсигар, он моментально вытянулся, но генерал дал рукой знак — держаться вольно.
— Под снегом — можно, товарищ генерал,— ответил ефрейтор.— Летом в этом отношении хуже. Остается кроту только позавидовать...
Генерал засмеялся. Достав «Казбек», он угостил сначала Лагутина, потом поднес пограничнику:
— Угощайтесь. Бы что курите — «Спорт», «Ракету»?
— Армейские, товарищ генерал.
Пограничник, прежде чем взять папиросу, поблагодарил и в тот момент, когда генерал угощал других, преподнес ему свой блестящий, с подковой портсигар:
— Попробуйте моего, товарищ генерал. «Самсун». Доморощенный. Почти то же самое, что и «Золотое руно»...
Лагутину это не понравилось. Он слегка поморщился и, ссунув на переносье брови, покивал головой.
— «Самсун», говорите? Ну, если «самсун» и притом — доморощенный... — и генерал улыбнулся.— Надо, надо попробовать... Вы что, у себя на заставе его выращиваете?..
Это была шутка, и пограничники сдержанно засмеялись.
— Из дому, товарищ генерал. Отцовский подарочек.
И в то время, когда генерал начал скручивать цигарку, ефрейтор рассказал, почему его отец накануне каждого торжественного праздника считает своим долгом прислать ему этого табаку.
— Вместе воевали, товарищ генерал. И ни с кем-нибудь, а с матерью и ее пережитками... Достал было батя у одного селекционера семена. Вот этого самого «самсуна». Ну и там, где мать собиралась посадить капусту, посеял табак. Хороший табак удался! Чистое золото!.. Распробовал, и на другой год вовсе мать на огород не пустил. «Это,— заявил,— мой опытный участок! И, пожалуйста, не лезь сюда со своими редьками да укропами. Этого добра и так хватает...» Ох, и война была. А теперь в деревне иного сорта и не знают, «самсун», и все тут.
— А ничего, ничего,— после двух-трех затяжек сказал генерал.— Недаром воевали.
Щелкнув крышкой портсигара, он протянул его хозяину, но потом вдруг задержал. Брови его поползли вверх, а на лице отразилось волнение. Это был его портсигар. Портсигар генерала.
— Ваша фамилия — Рудницкий? — спросил генерал у пограничника.
— Так точно, товарищ генерал,— ответил ефрейтор.
— Сын Степана Даниловича?
— Сын Степана Даниловича.
Генерал крепко пожал ефрейтору руку и повернулся к начальнику заставы:
— Ваш пограничник, капитан, помогал отцу воевать за «самсун». А мы с его отцом для того, чтоб счастливо жили советские люди, чтоб разводили на земле лучшие сорта табака, и не только табака, вместе отстаивали нашу Родину...
Лицо генерала стало серьезным. Взгляд его сухих суровых глаз прошел через границу и остановился на далекой, синеющей на горизонте полоске леса. Словно выхваченный отсветом молнии в ночи, перед ним встал один из весенних дней последнего года войны, где-то под Висбаденом...
Бой за высоту 315 идет третьи сутки. Враг, поливая из дзотов перекрестным огнем, не дает поднять голову. Два солдата один за другим идут на подавление огневой точки и погибают на глазах. Идет третий... Четвертый... Ничего не получается... Перед полковником Сидориным появляется вспотевший, обросший щетиной солдат. Капли пота скатываются по щекам, собираются на бороде, дрожат и падают. Солдатская варежка крепко проходится по лицу, поправляет шапку-ушанку: «Разрешите мне, товарищ полковник?» Сидорин отворачивается и безнадежно машет рукой. «Разрешите...» — слышит он вторично голос солдата... «Отставить, гвардии рядовой Рудницкий!» Но этого приказа Рудницкий не слышит. Он уже на пути к вражескому дзоту. Сотни глаз следят за каждым его движением. Шесть-восемь раз падает он убитым, но стоит дзоту на минуту замолчать, как солдат оживает и ползет вперед. «Герой!.. Герой...» — шепчет про себя Сидорин. Дзот уже близко. Десять, пять, три метра... Последний прыжок — и Рудницкий, обессиленный, приваливается к стенке дзота. Где-то в глубине слышится глухой взрыв. Из амбразуры, будто из печной трубы, валит густой дым...
Высота 315 была взята. Рудницкий в тот же день был представлен к награждению, а полковник Сидорин подарил ему свой портсигар.
Об этом героическом подвиге Рудницкого генерал рассказал пограничникам.
— Очень кстати, что вам довелось служить на границе,— сказал генерал Рудницкому-сыну.— В этом большой смысл...— И вернул портсигар.
Каждому пограничнику хотелось подержать портсигар в руках, и кто только не держал его,— не мог не заметить над символичной подковой на нем тонкую работу ювелира: «Гвардии рядовому Степану Даниловичу Рудницкому от полковника Сидорина».
— Будете писать,— сказал Рудницкому генерал,— передавайте гвардейцу привет. Привет от полковника Сидорина!
— От полковника? От генерала!..— сказал сержант Гимаев.
— Привет от генерала! — улыбнувшись, согласился Сидорин.
... Отделение сержанта Гимаева идет на заставу. Ефрейтор Рудницкий — впереди. На свежем снегу отчетливый след прошедшей легковой автомашины. Только что, попрощавшись, проехал генерал. «Как это он сказал про нас, пограничников? «Бессменный часовой наряд армии-победительницы...»
Отец его, Степан Рудницкий, когда узнал, что он, его сын Андрей, попал служить на границу, писал в письме: «В строю главное — равнение, не сбиваться с шага. А если тебе поручено охранять рубежи нашей дорогой Родины — охраняй. Знай: ты днем и ночью на переднем крае...»
Вспомнив эти слова из отцовского письма, пограничник Рудницкий почувствовал, как у него чаще забилось сердце.
Ему стало очень приятно, что его отец, заведующий птицефермой, думает об обороне своей Отчизны так же, как и генерал.
ВСТРЕЧА
Рассказ
Это были обычные практические занятия.
На заставе такие занятия проводились регулярно, и теперь капитан Лагутин был вполне уверен, что ему ни перед кем — ни за себя, ни за своих подчиненных — краснеть не придется. Да что краснеть! Взять хотя бы сержанта Гимаева. Он, Лагутин, даже хотел вот что сделать: вывести на занятия самое, на его взгляд, малоопытное отделение. Но в последний момент мысль его остановилась на отделении сержанта Гимаева. Из штаба погранотряда сообщили, что на заставу выехал проверяющий из Москвы. И хотя в штабе знали, что проверяющий едет не к кому-нибудь иному, а к Лагутину, все же сочли необходимым предупредить его.
Это было всего два часа назад. А сейчас они, начзаставы Лагутин и проверяющий, моложавый, ловко сложенный генерал (капитану и в голову не приходило, что к нему может нагрянуть генерал),— стояли на высокой, оснеженной, с тремя соснами горе, откуда все видно было, как на ладони. На условно обозначенной границе, проходящей по старому, давно уже не езженному шляху, вот-вот должны были показаться «нарушители», а за ними — «пограничный наряд».
Стоял тихий, безветренный мартовский день. Ночью слегка натрусило свежим снежком, и теперь он, словно радуясь тому, что лег на землю, весело искрился на солнце. Вокруг не слышно было ни звуков, ни шорохов. Только откуда-то из поселка время от времени доносился звон кузнечного молота, еще больше подчеркивавший молчаливость зимнего дня.
«Что-то медлишь, Гимаев»,— подумал Лагутин. Раз за разом он поднимал бинокль и подолгу глядел на шлях, на котором никто не показывался.
Генерал, заложив руки за спину, прохаживался взад-вперед.
— Вы давно на границе, капитан?
Лагутин насторожился, но тут же отрапортовал:
— Пятый год, товарищ генерал.
— Родом откуда?
— С юга, из Пятигорска.
— Там уже весна...
— Весна, товарищ генерал.
— Пятигорск!.. Гора Машук. Лермонтов...— Генерал нагнулся, взял горсть снега и начал лепить снежок.— Давно хотел побывать там, проехать по Военно-Грузинской дороге... Со школьных лет еще... Не выпадает... Был в Софии, Берлине, Мукдене, даже в Токио! А вот Кавказ...
— Бывать не довелось?
— Да... Ваши люди, капитан! ~ Генерал бросил снежок и взял у Лагутина бинокль.
Генерал не ошибся. Трое пограничников, переодетые в гражданское, пробирались через молодой березник к шляху. Начзаставы Лагутин даже и без бинокля мог в каждом из них узнать своих ребят. Но по тому, как они делали короткие перебежки, прятались за пни и, оглядевшись, двигались дальше к границе, у Лагутина поднималось то острое, давно знакомое ему чувство, которое испытывал он при каждом настоящем нарушении границы.
Ему хотелось побыстрее увидеть свой пограничный наряд, который бы принял самые решительные меры по задержанию нарушителей.
Но «нарушители» уже были почти на «границе». Когда последний из них, пригибаясь, пулей перелетел через шлях и упал в снег, генерал засмеялся:
— Чистая работа!..
Как было правильно понять эти слова и смех генерала? В них, как показалось Лагутину, кроме похвалы была и насмешка: что ж, считай, что «граница» уже нарушена. А где же твой наряд, капитан? Не вижу!.. Лагутин промолчал. Сделал вид, что этого не заметил. Он знал, что «наряд» давно с «нарушителей» не сводит глаз, и то, что проверяющий покуда не замечает его, Лагутина даже радовало.
— Маневр, товарищ генерал,— наконец сказал капитан.— Маневр при групповом нарушении. Если нарушители идут группой, они, безусловно, вооружены. Поэтому лучше всего выводить их ка открытое место и... действовать. Вот так и с этими — дальше вон той просеки им не пройти...
Генерал направил бинокль в ту сторону, куда показал начзаставы. За шляхом, между зарослями и густым молодым сосняком, неширокой полосой проходило поле. Оно, как раз поперек, пересекало дорогу «нарушителям», которые, сойдясь, были уже на выходе из кустарника и, видно, советовались, как им перескочить это открытое опасное место.
Где же пограничники? Отведя взгляд от «нарушителей», генерал повел биноклем в сторону и вдруг сделал шаг вперед. Возле кустарника, слева, он заметил белую в маскхалате фигуру. Короткими рассчитанными скачками она передвигалась от куста к кусту, на открытых местах зарывалась в снег и спустя мгновение показывалась уже в совершенно другом месте.
— Настоящий пограничник! Пошел наперерез. По-пластунски... Вы замечаете, капитан? — Генерал, не отрывая взгляда от пограничника, передал бинокль Лагутину. На возбужденном лице его светилась скупая довольная улыбка.
Пограничник, почти сливаясь со снегом и оставляя за собой глубокий след, полз уже через поле к густому сосняку.
— Ефрейтор Рудницкий,— сообщил Лагутин.
— Как вы сказали? Рудницкий?
— Ефрейтор Рудницкий, товарищ генерал.
— Знакомая фамилия. Рудницкий...
В этот момент пошли «нарушители». Видно, не особенно надеясь на глухую тишину сосняка, который одновременно был и спасением им, и самым удобным местом для засады пограничников, они, двое вместе — третий пока оставался в кустарнике,— оглядываясь, торопливо направились через поле. Когда до леса оставались уже считанные шаги, «нарушители» не выдержали и бросились бежать. Казалось, одна минута — и все они спрячутся в лесу. Но в это время навстречу им стремительно выскочили два пограничника, держа наготове оружие...
Двое сдались. Что касается третьего — тот, ища спасения, попытался повернуть обратно в кусты, но и ему не повезло: перед ним: будто из-под земли выросла кряжистая фигура сержанта Гимаева.
Все было кончено.
Лагутин знал, что скажет генерал. Он посматривал на своих пограничников, которые все вместе, и «нарушители» и «наряд», строем уже шли к горе, и втайне следил за лицом проверяющего.
Генерал был доволен.
— Значит, выводить на открытое место? — сказал он и улыбнулся, видно, находясь еще под впечатлением увиденного.
— Так подсказывает опыт, товарищ генерал,— ответил Лагутин.
— Отлично, отлично действовали. Одни и другие... Главное — школа. Чувствуется настоящая школа погранслужбы. Молодцы ребята!..
Генерал сказал то же самое и пограничникам, когда они поднялись на гору и стояли перед ним в молчаливом строю. Молодые, раскрасневшиеся и возбужденные, они будто были недовольны тем, что занятия окончились так быстро. Обычно после занятий был разбор. Его всегда проводили или Гимаев, или сам начзаставы. На этом разборе уже теоретически разрабатывались отдельные приемы перебежек, маскировки, применения оружия... И если получалась какая-нибудь мелкая, даже незначительная ошибка, допущенная на занятиях, все повторялось...
Сейчас же перед строем стоял генерал. Он говорил об особенностях пограничной службы, о той большой и ответственной миссии, которая поручена им, пограничникам, по охране рубежей советской Родины.
— Вы, пограничники, передние на переднем крае. Вы — бессменный часовой нашей земли,— закончил генерал.
И когда за отличную службу он объявил пограничникам благодарность, строй, словно это было не отделение, а рота в полном составе, откликнулся:
— Служим Советскому Союзу!
Дальше были те законные минуты, которые на солдатском языке называются — перекур. Ясный погожий день настраивал солдат на веселые шутки, подталкивал схватиться и покачаться по снегу, но присутствие генерала не позволяло этого.
— А за вами я следил, товарищ ефрейтор,— сказал генерал, подойдя к рослому, белобровому пограничнику.— Вы идете под снегом все равно, как крот. Да куда там крот!..
Это был ефрейтор Рудницкий. Он только что собирался закурить. Не успев спрятать портсигар, он моментально вытянулся, но генерал дал рукой знак — держаться вольно.
— Под снегом — можно, товарищ генерал,— ответил ефрейтор.— Летом в этом отношении хуже. Остается кроту только позавидовать...
Генерал засмеялся. Достав «Казбек», он угостил сначала Лагутина, потом поднес пограничнику:
— Угощайтесь. Бы что курите — «Спорт», «Ракету»?
— Армейские, товарищ генерал.
Пограничник, прежде чем взять папиросу, поблагодарил и в тот момент, когда генерал угощал других, преподнес ему свой блестящий, с подковой портсигар:
— Попробуйте моего, товарищ генерал. «Самсун». Доморощенный. Почти то же самое, что и «Золотое руно»...
Лагутину это не понравилось. Он слегка поморщился и, ссунув на переносье брови, покивал головой.
— «Самсун», говорите? Ну, если «самсун» и притом — доморощенный... — и генерал улыбнулся.— Надо, надо попробовать... Вы что, у себя на заставе его выращиваете?..
Это была шутка, и пограничники сдержанно засмеялись.
— Из дому, товарищ генерал. Отцовский подарочек.
И в то время, когда генерал начал скручивать цигарку, ефрейтор рассказал, почему его отец накануне каждого торжественного праздника считает своим долгом прислать ему этого табаку.
— Вместе воевали, товарищ генерал. И ни с кем-нибудь, а с матерью и ее пережитками... Достал было батя у одного селекционера семена. Вот этого самого «самсуна». Ну и там, где мать собиралась посадить капусту, посеял табак. Хороший табак удался! Чистое золото!.. Распробовал, и на другой год вовсе мать на огород не пустил. «Это,— заявил,— мой опытный участок! И, пожалуйста, не лезь сюда со своими редьками да укропами. Этого добра и так хватает...» Ох, и война была. А теперь в деревне иного сорта и не знают, «самсун», и все тут.
— А ничего, ничего,— после двух-трех затяжек сказал генерал.— Недаром воевали.
Щелкнув крышкой портсигара, он протянул его хозяину, но потом вдруг задержал. Брови его поползли вверх, а на лице отразилось волнение. Это был его портсигар. Портсигар генерала.
— Ваша фамилия — Рудницкий? — спросил генерал у пограничника.
— Так точно, товарищ генерал,— ответил ефрейтор.
— Сын Степана Даниловича?
— Сын Степана Даниловича.
Генерал крепко пожал ефрейтору руку и повернулся к начальнику заставы:
— Ваш пограничник, капитан, помогал отцу воевать за «самсун». А мы с его отцом для того, чтоб счастливо жили советские люди, чтоб разводили на земле лучшие сорта табака, и не только табака, вместе отстаивали нашу Родину...
Лицо генерала стало серьезным. Взгляд его сухих суровых глаз прошел через границу и остановился на далекой, синеющей на горизонте полоске леса. Словно выхваченный отсветом молнии в ночи, перед ним встал один из весенних дней последнего года войны, где-то под Висбаденом...
Бой за высоту 315 идет третьи сутки. Враг, поливая из дзотов перекрестным огнем, не дает поднять голову. Два солдата один за другим идут на подавление огневой точки и погибают на глазах. Идет третий... Четвертый... Ничего не получается... Перед полковником Сидориным появляется вспотевший, обросший щетиной солдат. Капли пота скатываются по щекам, собираются на бороде, дрожат и падают. Солдатская варежка крепко проходится по лицу, поправляет шапку-ушанку: «Разрешите мне, товарищ полковник?» Сидорин отворачивается и безнадежно машет рукой. «Разрешите...» — слышит он вторично голос солдата... «Отставить, гвардии рядовой Рудницкий!» Но этого приказа Рудницкий не слышит. Он уже на пути к вражескому дзоту. Сотни глаз следят за каждым его движением. Шесть-восемь раз падает он убитым, но стоит дзоту на минуту замолчать, как солдат оживает и ползет вперед. «Герой!.. Герой...» — шепчет про себя Сидорин. Дзот уже близко. Десять, пять, три метра... Последний прыжок — и Рудницкий, обессиленный, приваливается к стенке дзота. Где-то в глубине слышится глухой взрыв. Из амбразуры, будто из печной трубы, валит густой дым...
Высота 315 была взята. Рудницкий в тот же день был представлен к награждению, а полковник Сидорин подарил ему свой портсигар.
Об этом героическом подвиге Рудницкого генерал рассказал пограничникам.
— Очень кстати, что вам довелось служить на границе,— сказал генерал Рудницкому-сыну.— В этом большой смысл...— И вернул портсигар.
Каждому пограничнику хотелось подержать портсигар в руках, и кто только не держал его,— не мог не заметить над символичной подковой на нем тонкую работу ювелира: «Гвардии рядовому Степану Даниловичу Рудницкому от полковника Сидорина».
— Будете писать,— сказал Рудницкому генерал,— передавайте гвардейцу привет. Привет от полковника Сидорина!
— От полковника? От генерала!..— сказал сержант Гимаев.
— Привет от генерала! — улыбнувшись, согласился Сидорин.
... Отделение сержанта Гимаева идет на заставу. Ефрейтор Рудницкий — впереди. На свежем снегу отчетливый след прошедшей легковой автомашины. Только что, попрощавшись, проехал генерал. «Как это он сказал про нас, пограничников? «Бессменный часовой наряд армии-победительницы...»
Отец его, Степан Рудницкий, когда узнал, что он, его сын Андрей, попал служить на границу, писал в письме: «В строю главное — равнение, не сбиваться с шага. А если тебе поручено охранять рубежи нашей дорогой Родины — охраняй. Знай: ты днем и ночью на переднем крае...»
Вспомнив эти слова из отцовского письма, пограничник Рудницкий почувствовал, как у него чаще забилось сердце.
Ему стало очень приятно, что его отец, заведующий птицефермой, думает об обороне своей Отчизны так же, как и генерал.
"Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе... и тем кто сделал к ней первой шаг..."
- pogranec
- Администратор
- Сообщения: 3389
- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38
- место службы: Республика Беларусь
- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с
- Контактная информация:
Re: Всегда на страже (очерки, рассказы, повести)
АНАТОЛИЙ МИЛЯВСКИЙ
РАДИОГРАММА
Рассказ
Рано утром Горчаков отвез жену в родильный дом.
Он долго стоял в приемной, от нечего делать разглядывая кафельные стены и дверь, за которой скрылась его Люда. В маленькое окошечко сухорукий санитар принимал передачи: узелки и сетки с яблоками, кефиром, виноградным соком. Лицо у санитара было серьезное, исполненное достоинства и строгости.
Горчаков снял фуражку и расстегнул крючок офицерского кителя. Он решил ждать хоть до ночи. На корабле за него остался помощник, старший лейтенант Доскаль, парень надежный. Ничего особенного на сегодня не предвиделось. В крайнем случае Доскаль даст знать.
Он покосился по сторонам: сесть было не на что. Две табуретки были заняты и, видимо, прочно. На одной сидел молодой носатый парень в очках, нервно теребя в руках свернутую трубкой газету, на другой устроилась дородная женщина с высокой прической и надменным взглядом.
Горчаков вздохнул и посмотрел в окно на чахлые акации больничного дворика.
Ребенка они ждали давно, с тайной надеждой людей, уже однажды обманутых судьбой. Три года назад, когда Горчаков еще служил на Курилах, у Люды случились преждевременные роды. Ребенка спасти не удалось.
Горчакову тогда казалось, что все кончено. Когда он увидел жену, выходящую из дверей больничного отделения, похудевшую и осунувшуюся, со скорбными, словно остановившимися глазами, судорога прошла по его лицу, и он чуть не разрыдался. Она положила руку ему на плечо:
— Ничего, Сережа, ничего...
Она его утешала!
Даже сейчас, вспомнив об этом, он почувствовал, как сердце заныло. Только бы теперь все обошлось хорошо. Ведь как все просто у других.
Как она сейчас там, одна, наедине со страхом и болью, такая маленькая в длинном больничном халате. Он с острой нежностью вспоминал ее худенькое лицо с мальчишеской стрижкой, быструю улыбку, привычку слегка шепелявить. Она молодчина, его Люда, смелая маленькая женщина. Ей тогда прямо сказали, что новая беременность — большой риск. Но она решилась и уговорила его. Она знала, как он хочет сына.
Потянуло закурить. Он вышел во дворик, выщелкнул из пачки сигарету, жадно затянулся.
Кто-то кашлянул за его спиной. Он обернулся и увидел красное от загара лицо матроса Лысых. Бескозырка лихо сидела на его круглой голове. Он старался сдерживать дыхание, но грудь под тельняшкой тяжело ходила: видимо, бежал.
— Товарищ командир, просят на корабль.
Едва увидев Лысых, Горчаков уже понял, что предстоит. Но спросил все-таки:
— Что там еще?
— Срочный выход в море, товарищ командир.
Он взял донесение, прочел его, молча спрятал в карман. Поглубже натянув фуражку, с тоской оглядел больничное крыльцо, окна с марлевыми занавесками и быстро зашагал прочь. Лысых едва поспевал за ним, придерживая бескозырку.
Горчаков еще издали отыскал глазами свой маленький корабль, приткнувшийся у стенки среди более рослых сторожевиков.
Вся команда уже была выстроена вдоль борта. Чехлы на бескозырках сверкали первозданной белизной. Горчаков невольно усмехнулся этому нехитрому фокусу: чехол стирался перед построением и тут же, еще влажным, натягивался на околыш — никакая глажка не давала такой яркости и белизны. Он в свое время научился этому в училище, и, видимо, этот секрет был известен не только ему.
Сейчас он и мог видеть всю команду рядом — всех шестнадцать человек, отсутствовали механик и вахтенный моторист. На суденышке не было такого места, где их можно было собрать всех вместе, разве что на палубе. Но во время хода на палубе находиться не полагалось.
Сейчас они стояли по ранжиру, в одинаковой «форме раз» и, вытянувшись, смотрели на него. Он, подходя, пробежал глазами всю шеренгу, от рослого Ткаченко до маленького крепыша Копытько. Все были на месте — сигнальщики, гидроакустики, комендоры, радиометристы. Его ребята, его команда.
— Смирно! — Доскаль шагнул навстречу, забарабанил слова рапорта.
— Вольно,— сказал Горчаков,— по местам стоять.
Палуба заполнилась звонким, рассыпчатым грохотом ног.
Доскаль подошел. От него пахло одеколоном.
— Как там? — спросил.
Горчаков махнул рукой.
— Все будет в порядке, Сергей Николаевич...
Оказывается, Доскаль уже позаботился. Оперативным заступил их общий друг Трибрат. Обещал держать железно связь, сообщать все важное о состоянии Люды.
Горчаков благодарно стиснул ему руку. Они служили вместе всего несколько месяцев, но он не представлял себе кого-нибудь другого на месте Андрея Доскаля. Сейчас широкое веснушчатое лицо помощника вызывало у него нежность. Он отвернулся, чтобы не выдать себя.
— Воду сменили? — спросил.
— Полностью.
— Как с аккумуляторами для третьего?
— Порядок.
— Новую лоцию взяли в штабе?
— Вырвал, Сергей Николаевич, Всего шесть получили. Другим не досталось.
Впрочем, все это можно было и не спрашивать, Он знал, что Доскаль ничего не забудет.
— Ладно, двинули помаленьку.
Никто не провожал их, когда они отходили от стенки. Только дежурный по пирсу равнодушно помахал растопыренной пятерней. С большого плавкрана смотрели матросы в оранжевых спасательных жилетах. Вода была в радужных разводах от мазута.
Оки осторожно шли к выходу в море, лавируя среди кораблей, В бухте было тесно. Гремели динамики, заглушая резкие крики чаек.
Наконец они вышли к узкому горлу бухты, где стояли заградительные боны, и чуть-чуть прибавили ходу. Выветренные веками серо-коричневые утесы с древней сторожевой башней, видевшие, наверное, и римские триремы, и венецианские галеры, равнодушно смотрели на маленький верткий корабль.
Горчаков прошел в рубку. Там уже сидел на своем месте командир БМ4-5, а проще говоря — главный механик, старший лейтенант Цукадзе. Перед ним лежал номер английского технического журнала. Цукадзе поднял на Горчакова свои маслянисто-черные глаза:
— Что говорит медицина?
— Медицина безмолвствует,— в тон ему ответил Горчаков,
— Природе мешать не надо,— изрек Цукадзе и углубился в журнал. Он был убежденным холостяком, и все волнения Горчакова представлялись ему несущественными.
— Сергей Николаевич, я все-таки сделал отсекатель для маслопомпы,— сказал немного погодя.— Вроде получилось.
Он возился с этим отсекателем уже месяц. Корабль был новый, экспериментальный, и Цукадзе считал необходимым внести свою лепту в технический прогресс. Он втянул в это дело уже кое-кого из команды. Во всяком случае с одним из мотористов он частенько шушукался над тетрадкой.
— Добро, — сказал Горчаков.
Корабль уже вышел из бухты. Их окружала чистая темно-зеленая вода.
Горчаков наклонился к мегафону:
— Покинуть палубу.
Захлопнулись лючки, опустела палуба, выкрашенная серо-стальной шаровой краской. Только спаренные стволы скорострельной кормовой пушки одиноко смотрели в небо. Цукадзе закрыл журнал, руки легли на рукоятки секторов двигателей. Лицо стало напряженным и жестким. В рубку вошел Доскаль, встал за вращающимся креслом Горчакова.
— Полный...
Заревел, завыл двигатель. Облачко голубоватого дыма вспучилось и сейчас же пропало, унесенное ветром. Широкая и длинная пенная река возникла за кормой. Задрожал, содрогаясь, жестяной флажок на мачте.
Подпрыгивая, словно летающая рыба, несся корабль навстречу открытой синеве горизонта. Берега уходили назад, сглаживались резкие горные складки, одевались дымчатой синевой. Две чайки, летевшие за ними от самой базы, отстали, хрипло крича вдогонку, заваливаясь на крыло.
Горчаков наслаждался скоростью. Он только один раз на заводской акватории видел свой корабль со стороны во время хода. У него тогда захватило дыхание от волнения. Он влюбился сразу и бесповоротно. Он прощал своему кораблю и крошечные тесные каюты, и узкие лючки, и слишком легкий корпус.
— Сколько? — спросил Доскаль.
— Пятьдесят три узла,— ответил Цукадзе.
Да, такую скоростенку ему бы тогда на Курилах: не ушла бы от него та, трижды клятая японская шхуна. Он застал ее за ловом почти у самого берега, навел прожектор, увидел, как заметались по палубе низкорослые фигуры, что-то крича и рубя якорные концы. И сразу взревел на шхуне мотор, и она, прыгнув вперед, стала уходить, как от стоячего, от его старенького сторожевика.
Вспомнил, как он скрипел зубами от бессильной ярости, видя, что расплывается в тумане черное пятно шхуны и затихает, как в вате, скороговорка мотора.
Нет, теперь от него так просто не уйдешь, как не ушла эта нахальная фелюга с мощным мотором. Она, видимо, считала себя уже в безопасности. Он был от нее за пятьдесят миль, пошел на перехват и догнал у самой «нейтралки». Так-то!
...— Товарищ капитан-лейтенант, впереди бочка, расстояние два кабельтовых,— доложил сигнальщик.
Они точно вышли в квадрат. Доскаль, прокладывавший курс, подмигнул за спиной Горчакова: мол, знай наших.
Подошли к бочке. Лениво слетели с нее несколько грузных чаек. Сигнальщик умоляюще посмотрел на старпома, тот — на Горчакова. Горчаков усмехнулся:
— Валяй!
Это было любимое развлечение команды. Сигнальщик быстро скинул с себя робу и через невысокий леер ласточкой нырнул в воду. Через минуту он уже сидел верхом на бочке, закрепляя конец, и блаженно улыбался.
Они были на месте. Теперь предстояло долгие часы вести наблюдение, болтаясь на море, как щепка. Горчаков вздохнул. Он терпеть не мог таких заданий. Он слишком ревниво относился к своему кораблю. Его дело — активный поиск, скорость, перехват. Но ничего не сделаешь, задание есть задание.
...На корабле уже шла неторопливая, раз навсегда налаженная, работа. Он сам налаживал эту работу и теперь с гордостью следил, как уверенно и четко действуют все на своих местах. Мягко рокотал запасной движок. Подняли на талях и опустили в воду тяжелую рыбину акустического снаряда. Теперь гидроакустик Зинченко сидел в наушниках, с терпеливым и немного скорбным выражением лица вылавливая далекие подводные шумы.
Горчаков взглянул в сторону берега. Контуры его чуть угадывались, расплывчато голубели. Всего каких-нибудь два часа прошло с тех пор, как он покинул больничный дворик. Наверное, еще сидят в приемной на табуретках тот парень и дородная женщина! А он уже за сотню миль от них, в море.
Как там сейчас Люда? Он представил себе, как она в душной палате кусает губы, сдерживая крик, и у него снова заныло сердце. Почему до сих пор нет ничего от Трибрата?
Он вдруг вспомнил, как они впервые встретились с Людой. Он тогда учился в Ленинграде в училище на последнем курсе. Этот день перед увольнением выдался на редкость несчастливым — не пришло письмо от матери, он получил тройку по электротехнике и поссорился со своим помкомвзвода. Он вышел из проходной, чувствуя себя несчастным и одиноким. Товарищи в наглаженных форменках с училищными шевронами на рукавах, в лихо надвинутых мичманках громко смеялись, сговаривались идти в кино, потом в соседний парк на танцы. Он неожиданно откололся от всех, сел на троллейбус, поехал в центр, в Русский музей. Его потянуло к тишине, к строгой красоте картин, запаху старого лака, жужжанию невидимых вентиляторов. Оставалось два часа до закрытия, залы были почти пусты, дежурные подремывали на своих стульях.
Он обратил на нее внимание только потому, что в этом зале, кроме них, никого не было. Она переходила от картины к картине, что-то помечая в тетрадке. «Учителка», — решил он насмешливо. Он не удивился бы, увидев на ней очки. Но очков не было. Голубые глаза глянули на него сдержанно, но дружелюбно. Опытным мужским взглядом он отметил крепкие, стройные ноги в туго натянутых чулках, серый шерстяной костюм не подчеркивал, но и не скрывал линии тела. Она была коротко подстрижена, и это придавало ей какой-то независимый вид. Но вместе с тем в той тщательности, с которой она разглядывала картины, в некоторой скованности движений угадывалась провинциальная, не ленинградская прописка.
Она остановилась возле картины «Девятый вал». Он тоже подошел и стал смотреть. Это была его любимая картина. Краешком глаза он видел ее строгий профиль и руку, сжимавшую свернутую трубкой тетрадку.
— Какое фантастическое освещение,— неожиданно раздался ее голос,— не правда ли? Интересно, вот вы — моряк, видели такое?
Он невольно покраснел. Он не был робок с девушками и знал, как вести разговор. Но сейчас ему почему-то захотелось, чтобы она не подумала о нем, как о развязном фатоватом мореходе.
Он лихорадочно подыскивал слова, но не найдя их, сказал отрывисто:
— Я не очень в этом разбираюсь, но, по-моему, это здорово.
Она сухо кивнула, словно посвящая его в рыцари, а он подумал, что сказал в общем-то ерунду и замолчал. Они по-прежнему стояли рядом и смотрели на картину. Тонкая ниточка разговора опасно провисла, готовая порваться. Но их выручила дежурная.
— Закрываем, завтра досмотрите, товарищи молодожены.
Они переглянулись, покраснели и вдруг прыснули.
Вышли из музея вместе. Был обычный дождливый ленинградский вечер. Крепко пахло сырой землей в парках. Зыбкие огни первых фонарей отражались в Неве. Они шли и разговаривали, словно были знакомы уже давно. Он узнал, что она учится в Новгороде в пединституте на филологическом и что сегодня у нее «окно» и она специально приехала в Русский музей, а завтра рано утром уедет обратно.
Уже потом он не раз думал — как велика цена случайности: не приди он в этот день в музей, они никогда бы не встретились.
Они поженились перед самым распределением. Он получил назначение на Курилы.
Они пробыли на Курилах шесть лет. Мерзли сначала в деревянном японском домике, потом переселились в двухэтажное офицерское общежитие. Только на третий год она стала работать по специальности, в интернате, всего шесть часов в неделю, мизер для филолога, окончившего институт с отличием. Но она не унывала, находила себе работу, вела литературный кружок в Доме офицеров, заставила Горчакова заниматься английским языком, правила его отчеты и докладные записки. «Боже мой, что за дикие слова: «плавкран», «бербаза», это же насилие над языком». Он, улыбаясь отбивался: «По-твоему, «педсовет» лучше? Привыкли, и все...»
Только один раз он видел ее плачущей. Она получила письмо от подруги и, вкось разорвав конверт, читала его за столом. Потом сказала странным безжизненным голосом: «Боже мой, это ничтожество, Валька Тархова, в аспирантуре». И он увидел на глазах ее слезы. Они капали, капали прямо на бумагу, а она сидела неестественно прямо, словно эти слезы были не ее, а чьи-то чужие. Но это было один раз...
Нет, она была у него молодчина. Настоящая офицерская жена. Порой ему казалось невероятным, что она вышла замуж за него, такого обыкновенного и, по его мнению, скучноватого человека. Он ревновал ее к молодым офицерам на вечерах самодеятельности и сам потом смеялся над этим...
— Жарко будет сегодня...
Голос Доскаля вернул его к действительности. Он кивнул. Да, помощник прав, сегодня будет знойный день, Горчаков видел это по белесовато-голубому небу и сизой дымке над берегом. Уже сейчас все норовят пройти по палубе с наветренной стороны, где на металле лежит тень от рубки. Часам к двум все раскалится, в отсеках будет душно, как в сушильном шкафу. И никуда не уйдешь — вахта.
— В четырнадцать ноль-ноль — команда купаться.
— Есть.
Горчаков посмотрел на чистую, бутылочного цвета воду. В прошлом году они с Людой так и не побывали в отпуске из-за переезда. И этот год тоже не придется...
В два часа дня термометр показывал тридцать четыре градуса в тени. Тень от рубки съежилась наполовину, и в ней могли уместиться не более двух человек. Море словно подернулось масляной пленкой. Глаза болели от ярких солнечных бликов. Пустынный горизонт наводил тоску.
Наступила самая нудная пора. Береговые заставы молчали. База запросила обстановку и тоже умолкла. Лениво покачивался на мертвой зыби маленький дозорный корабль.
Прошли мористее танкер «Туркменистан» и самоходная баржа, на сигналы ответили правильно. Занервничал было рыбацкий траулер — давал позывные — но ничего, разобрались, получил внушение, пошел своим курсом. Час назад услышал акустик винты подводной лодки — оказалась наша, обменялись приветствиями, пожелали удачного плавания. И снова пустынно море, только солнце жарит сверху.
Горчаков вошел в рубку, снял фуражку. Вытер вспотевший лоб, взял вахтенный журнал. Можно было часок подремать в каюте, но он знал, что все равно не уснет. Час назад пришла радиограмма от Трибрата. «Ничего нового, состояние удовлетворительное». И сердце у него снова заныло. Пуще всего он боялся этих слов «нормальное», «удовлетворительное». Доктора — они никогда не скажут правду. Скажут «состояние удовлетворительное». Гуманисты, черт бы их побрал! Прошлый раз тоже все было «в пределах нормы». И он тоже был в море, как сегодня. Прямо наваждение какое-то. Стоп, хватит, нужно взять себя в руки.
Он повернулся в своем вращающемся кресле и стал смотреть, как возится с автопрокладчиком курса штурманский электрик Анатолий Лядов. Плечи у Лядова могучие, мужские, а губы пухлые, детские, выпятил их, словно играет в какую-то занятную игру, того и гляди высунет кончик языка от старательности.
Горчакова всегда поражало сочетание зрелости и ребячливости у этих молодых парней, служивших на корабле. Детство словно не спешило покинуть их и нет-нет да давало о себе знать. Когда они по тревоге стояли на постах, лица у них были мужские, жесткие и сосредоточенные, вены по-взрослому набухали на руках. Но стоило прозвучать «купальной» команде: «За борт!» — как они превращались в стаю ребятишек, хохотали и дурачились, как школьники.
Он был старше их всего на семь-восемь лет, но чувствовал себя по отношению к ним пожилым, чуть ли не отцом. Он уже был шесть лет женат. Пока человек не женат, он еще не мужчина. Недаром кто-то из плавсостава пустил остроту, что у женатого год службы нужно считать за два.
Он знал, что они между собой зовут его «Седой». Таким он наверное и казался им с обветренным неулыбчивым лицом, с гусиными лапками у глаз и ранней сединой.
Во время ночной вахты он любил иногда тихонько спуститься в кубрик и посмотреть, как они спят. Они смеялись во сне, бормотали, чмокали, и лица у них были добрыми и детскими. Он осторожно поправлял сползшую простыню и оглядывался — не видел ли кто-нибудь случайно.
Пожалуй, он сейчас понял, почему так хочет сына. Может быть и потому, что постоянно перед глазами у него были эти мускулистые юношеские тела, эти молодые, белозубые лица. И он, не отдавая себе в том отчета, мысленно выбирал себе из них сына.
Они были похожи друг на друга и в то же время были все разными.
Вон, к примеру, чистит в холодке картошку Виктор Копытько, корабельный кок — курносый, губастый, с аккуратной челочкой. Сидит на ящике из-под галет, под очистки приспособил тазик — ни одна картофельная шкурка не упадет на палубу. Прилежный, улыбчивый, хозяйственный (повезет какой-нибудь девахе!). В камбузе у него все блестит. С ним никогда никаких хлопот, исполнителен, радушен.
А вот выглянул из своей рубки радист Ткаченко, Красив Боря Ткаченко! Густые черные брови изломаны, как крыло чайки, карие мерцающие глаза, густые ресницы, нос с хищной горбинкой — от таких лиц трудно оторваться. Вспыльчив, обидчив хуже девушки. Самолюбив, как дьявол. Дело свое делает уверенно-небрежно, хватает все с полуслова, но нет в нем той требовательной усидчивости, которая необходима радисту. С ним еще придется повозиться, в трудную минуту могут подвести нервы.
Вон нацелил на берег бинокль сигнальщик Слава Лысых. С виду посмотришь — спокойное, скуластое лицо, юношеские прыщи еще держатся кое-где, бриться начал, видно, недавно. Ох, не просто было с тобой, Слава, не просто. Уже в учебном отряде заслужил славу разгильдяя — нагрубил начальству, дважды сидел на гауптвахте за самоволку. Когда формировали судовые команды, все командиры открещивались от него и руками и ногами — кому охота тащить такой балласт в море? И озлобился Лысых, опустил руки и уже не вылезал из штрафников — семь бед один ответ. Что заставило тогда Горчакова вопреки мнению командиров взять его в команду? Может быть, тот взгляд, который он поймал у сбычившегося, насупленного парня — взгляд, который резанул его по сердцу своей беззащитной юношеской горечью. А может быть вспомнил свою собственную биографию — у него ведь тоже был характер не из легких.
Он не ошибся — Лысых не подвел его ни разу. На последних учениях получил благодарность от маршала. Правда, по-прежнему был замкнут, друзей не заводил. Ничего, Слава, оттаешь помаленьку...
В рубку вошел Доскаль. Горчаков сразу увидел торжествующий блеск в его глазах.
— Морской бог за нас,— сказал он.
Горчаков взял из его рук листок: передавали штормовое предупреждение. С юга шел шторм, часа через три-четыре его можно было ожидать здесь. Он сразу понял, что имел в виду Доскаль. Шторм был опасен для их маленького корабля не меньше, чем для прогулочного катера. Мощная волна могла перевернуть легкое суденышко, скользящее по воде на своих медных крыльях. Значит, скоро их нудное дежурство кончится — придется возвращаться на базу. Значит, скоро он будет рядом с Людой...
— Обрадовался, сачок,— хмуро сказал он, но улыбка сама поползла сбоку.
— Какие будут указания, Сергей Николаевич? — Доскаль улыбался открыто. Все его веснушки сияли.
— Гидроакустику поднять на борт. Свернуть все потихоньку. Закрепить по-штормовому. Комендор пусть кончает возиться с пушкой. Готовиться к переходу.
— Есть,— Доскаль затопал по палубе.
Солнце по-прежнему светило ярко. Ветер потихоньку свежел. На горизонте появились быстро бегущие бледные облака.
Да, морской бог, кажется, за него, Горчакова. Дышать становилось легче. Он потер руки.
В рубку, отдуваясь, вошел Цукадзе. Рубашка на груди была расстегнута, волосатая грудь лоснилась от пота.
— Отсекатель работает, как часы, командир. Беру авторское свидетельство,— сказал внушительно. — Что, скоро домой?
— Не исключено,— сказал Горчаков,
— Товарищ капитан-лейтенант,— Ткаченко почти ворвался в рубку. Цыганские глаза его блестели от возбуждения,— семнадцатый вызывает.
Семнадцатый был позывной базы. Горчаков бегом спустился по ступенькам. Неужели, Трибрат?..
— Двадцатый слушает...
Глуховатый голос забубнил издалека:
— В квадрате шесть замечена резиновая лодка с пассажиром. Десять кабельтовых правее радиомаяка. Срочно идите на перехват. Как поняли?.. По имеющимся данным на лодке — ученик 9-го класса Савчук...
— Вас понял. Прием.
— Выполняйте.
Щелкнула мембрана. Только легкое потрескивание слышалось в аппарате. Горчаков перевел дыхание. Ему хотелось выругаться. Идти за сто миль в другой квадрат, искать булавку в стоге сена, когда шторм уже на носу. Что они там, с ума посходили? Но уже через минуту он подавил в себе досаду. Штабники были правы. Только его крылатый корабль мог совершить этот бросок и настигнуть нарушителя вблизи нейтральной полосы. К тому же они, черти, знали, что у него уже был опыт перехвата одиночной лодки. Правда, то была моторка. Да и море было тогда спокойное. Но все-таки...
Он с тоской подумал о Люде. Что ж, видно, так ему везет. Морской бог, видно, передумал...
Синеватая туча шла с юго-запада, заслоняя горизонт. Ветер свежел, море было измято, вода приобрела стальной блеск.
Он пружинисто взбежал по лесенке в рубку. Доскаль и Цукадзе уставились на него, когда он отрывисто бросил:
— Боевая тревога!
... Широкий и длинный, как река, пенный бурун кипел за кормой.
Двигатель работал на полную мощность, в рубке мелко вибрировал пол. На стекле то и дело косые потеки воды закрывали от Горчакова стриженый затылок сигнальщика Лысых. «Так и не натянул капюшон штормовки, сукин сын»,— подумал он.
Волна еще была невелика, но ветер крепчал с каждой минутой. Корабль иногда подпрыгивал на мгновение, как самолет на взлетной дорожке, и снова со звоном плюхался на волну.
Слева Цукадзе флегматично развалился в своем кресле, следя за оборотами двигателя и изредка подавая короткие сигналы мотористам. Зато Доскаль был в непрерывном движении: от штурманского столика, где потел с циркулем в руках Лядов, к командирскому креслу, оттуда к боковому стеклу рубки, опять к столику — он чертил зигзаги такие же замысловатые, как и курс корабля.
Трудно было поверить, что еще час назад они, голые по пояс, изнывали от жары на гладкой, как тарелка, воде. Все вокруг было вздыблено, черные тучи неслись по небу, ветер швырял в лицо холодную водяную пыль, пробиваясь даже через штормовки.
Вот оно, ласковое море. Будто кто-то погладил его против шерсти.
Они полчаса назад вышли точно к радиомаяку и теперь вели поиск в квадрате. Горчаков поставил двух сигнальщиков на мостике. Сам он вел наблюдение из рубки. Но вспененное море было пустынным.
Худое, смуглое лицо Горчакова было непроницаемо, но на душе у него было тревожно. Шторм нарастал. Хрупкий экспериментальный корабль — готов ли он к таким передрягам, сколько еще можно продолжать поиск? Ведь до бухты почти сто пятьдесят миль...
...Горчаков выскочил на мостик. Ветер ударил в лицо горстями брызг, завыло, зашумело в ушах. Лысых стоял справа на своем месте, не отнимая бинокля от глаз, словно прикипел к палубе. Капюшон штормовки бесновался за спиной.
— Ну как? — спросил Горчаков.
— Пусто, товарищ командир.
Горчаков вернулся в рубку, тяжело уселся в кресло. Рука дрожала, когда потянулся за папиросой. Закурил, откинулся на спинку. Сильный удар в правый борт, рубка накренилась, полетела на пол пачка «Беломора». Корабль выпрямился и сейчас же стал заваливаться влево.
Цукадзе выругался сквозь зубы.
— Нужно возвращаться, Сергей Николаевич,— Доскаль положил ему руку на плечо. В этом жесте было не только товарищеское участие, Доскаль словно предлагал разделить ответственность за принятое решение, мягко, но решительно напомнил о присутствии на борту их, офицеров.
«Там мальчишка в лодке, школьник»,— захотелось закричать Горчакову. Но он неожиданно жестко сказал:
— Продолжать поиск. Я здесь командую!
Он не обернулся, но представил себе, как густо побагровело доброе, широкое лицо Доскаля. Рука соскользнула с плеча.
— Есть...
— Включить прожектор!
— Есть.— Доскаль вышел из рубки.
«Ты мне простишь это, Доскаль. Я объясню тебе потом. Там чей-то сын, понимаешь? Я должен, понимаешь? Пока есть хоть крохотный шанс. Ты никогда не оказывался на лодочке в бушующем море. А мне пришлось. Я тоже тогда был пацаном. Просто я не рассказывал тебе об этом. И не расскажу, наверное, никогда. Потому что было так страшно, что об этом не расскажешь.
Он наклонился к Цукадзе:
— Обороты?
— Держит.
— Топливо?
— Пока хватит.
«Пока хватит»,— в голосе Цукадзе сквозило сдержанное неодобрение. Значит, он тоже считает поиск бессмысленным и опасным, считает его, Горчакова, вспышку просто раздраженной придурью начальства. А может, он прав?
Он снова вышел на мостик. Пол ходил ходуном, что-то каталось под ногами. Левый сигнальщик Зинченко тяжело свесился над фальшбортом: его рвало. Горчаков отвернулся, чувствуя, как тошнота подползает к горлу. «Нужно заменить Зинченко. Кого же поставить?» — машинально подумал он. Лысых еще держался крепко. Горчаков ухватился за леер, крикнул в спину ему:
— Как дела?
— Пусто.
Чья-то фигура появилась на мостике, на минуту заслонив свет прожектора, оттащила Зинченко, толкнула в дверь рубки. Горчаков узнал Доскаля. Тот, цепко хватаясь за поручень, приблизился, наблизил к лицу Горчакова свое разгоряченное лицо:
— Мог бы сказать не одному Лысых, командир. Все-таки вместе плаваем, не чужие.
«Значит, уже знает про мальчишку,— промелькнуло в голове у Горчакова,— значит, знает. Извини, дружище, что не сказал тебе сразу. Так уж получилось. Такой уж у меня сволочной характер, извини». Он хотел крикнуть весело и громко, но голос его прозвучал хрипло:
— Намек понял, исправлюсь.
Доскаль махнул рукой, отошел в угол, поднял бинокль, окуляры скупо блеснули под прожектором,
Горчаков вернулся в рубку, сел за пульт. Цукадзе хмуро смотрел перед собой, держась за аварийные скобы. Все ерзало и скрипело вокруг, вплетаясь визгливыми голосами в рев двигателя. Корабль тяжело нырял, вздрагивая, как живой. Горчакову почудилось, что он стонет.
«Нужно возвращаться,— тупо, однообразно заныло в висках. Он потер их, но боль не уходила.— Нужно возвращаться. Ничего не сделаешь. Больше рисковать нельзя...»
В рубку тяжело ввалился Доскаль. Откинул капюшон, струйки воды полились на пол, ладонью обтер широкое лицо. Встретился глазами с Горчаковым, покачал головой:
— Пусто.
Горчаков встал, зачем-то посмотрел на часы, сморщился, как от зубной боли. Сказал глухо:
— Идем назад.
— Еще немного пошарим, Сергей Николаевич.— Доскаль смотрел ему прямо в глаза, медленно затягивая тесемки капюшона. Бинокль косо висел у него на груди, весь в капельках воды, словно вспотел от работы.
В рубку ударило ветром, зашелестел страницами вахтенный журнал, Цукадзе невольно придержал фуражку — это ворвался Лысых, забыв задраить дверцу.
— Вижу плавающий предмет, четверть кабельтова справа.
В дверях рубки Горчаков чуть не застрял, бросившись к ней одновременно с Доскалем. Он вырвал у Лысых бинокль, крикнул сразу осевшим голосом:
— Курс на предмет, дать прожектор!
Стоп, не торопиться. Что это, запотели окуляры или слезятся глаза? Вот она, лодка. Ну да, резиновая лодка. Ай да Лысых!
— Самый малый ход. Шлюпку на воду,— это уже крикнул Доскаль.
Эх и покачает нас сейчас на малом ходу. Только бы не перевернуло. Нет, морской бог все-таки за нас...
Спасенного положили на койку в кабине Горчакова.
Сзади кто-то деликатно тронул командира за рукав:
— Радиограмма, товарищ капитан-лейтенант.
Только сейчас он снова вспомнил о Люде, и мысль о ней обожгла его старой тревогой. Он схватил из рук Ткаченко узкий листок, и строчки вдруг стали расплываться у него перед глазами, как ночные фонари. «Поздравляю дочкой, обнимаю, морской порядок. Ждем берегу, Трибрат».
Море ревело вокруг, а он готов был обнять эти волны, это серое злобное небо, целовать пляшущий пол палубы. Листочек вырвался у него из рук, метнулся по ветру, исчез за водяными хребтами. Горчаков качался, как пьяный.
РАДИОГРАММА
Рассказ
Рано утром Горчаков отвез жену в родильный дом.
Он долго стоял в приемной, от нечего делать разглядывая кафельные стены и дверь, за которой скрылась его Люда. В маленькое окошечко сухорукий санитар принимал передачи: узелки и сетки с яблоками, кефиром, виноградным соком. Лицо у санитара было серьезное, исполненное достоинства и строгости.
Горчаков снял фуражку и расстегнул крючок офицерского кителя. Он решил ждать хоть до ночи. На корабле за него остался помощник, старший лейтенант Доскаль, парень надежный. Ничего особенного на сегодня не предвиделось. В крайнем случае Доскаль даст знать.
Он покосился по сторонам: сесть было не на что. Две табуретки были заняты и, видимо, прочно. На одной сидел молодой носатый парень в очках, нервно теребя в руках свернутую трубкой газету, на другой устроилась дородная женщина с высокой прической и надменным взглядом.
Горчаков вздохнул и посмотрел в окно на чахлые акации больничного дворика.
Ребенка они ждали давно, с тайной надеждой людей, уже однажды обманутых судьбой. Три года назад, когда Горчаков еще служил на Курилах, у Люды случились преждевременные роды. Ребенка спасти не удалось.
Горчакову тогда казалось, что все кончено. Когда он увидел жену, выходящую из дверей больничного отделения, похудевшую и осунувшуюся, со скорбными, словно остановившимися глазами, судорога прошла по его лицу, и он чуть не разрыдался. Она положила руку ему на плечо:
— Ничего, Сережа, ничего...
Она его утешала!
Даже сейчас, вспомнив об этом, он почувствовал, как сердце заныло. Только бы теперь все обошлось хорошо. Ведь как все просто у других.
Как она сейчас там, одна, наедине со страхом и болью, такая маленькая в длинном больничном халате. Он с острой нежностью вспоминал ее худенькое лицо с мальчишеской стрижкой, быструю улыбку, привычку слегка шепелявить. Она молодчина, его Люда, смелая маленькая женщина. Ей тогда прямо сказали, что новая беременность — большой риск. Но она решилась и уговорила его. Она знала, как он хочет сына.
Потянуло закурить. Он вышел во дворик, выщелкнул из пачки сигарету, жадно затянулся.
Кто-то кашлянул за его спиной. Он обернулся и увидел красное от загара лицо матроса Лысых. Бескозырка лихо сидела на его круглой голове. Он старался сдерживать дыхание, но грудь под тельняшкой тяжело ходила: видимо, бежал.
— Товарищ командир, просят на корабль.
Едва увидев Лысых, Горчаков уже понял, что предстоит. Но спросил все-таки:
— Что там еще?
— Срочный выход в море, товарищ командир.
Он взял донесение, прочел его, молча спрятал в карман. Поглубже натянув фуражку, с тоской оглядел больничное крыльцо, окна с марлевыми занавесками и быстро зашагал прочь. Лысых едва поспевал за ним, придерживая бескозырку.
Горчаков еще издали отыскал глазами свой маленький корабль, приткнувшийся у стенки среди более рослых сторожевиков.
Вся команда уже была выстроена вдоль борта. Чехлы на бескозырках сверкали первозданной белизной. Горчаков невольно усмехнулся этому нехитрому фокусу: чехол стирался перед построением и тут же, еще влажным, натягивался на околыш — никакая глажка не давала такой яркости и белизны. Он в свое время научился этому в училище, и, видимо, этот секрет был известен не только ему.
Сейчас он и мог видеть всю команду рядом — всех шестнадцать человек, отсутствовали механик и вахтенный моторист. На суденышке не было такого места, где их можно было собрать всех вместе, разве что на палубе. Но во время хода на палубе находиться не полагалось.
Сейчас они стояли по ранжиру, в одинаковой «форме раз» и, вытянувшись, смотрели на него. Он, подходя, пробежал глазами всю шеренгу, от рослого Ткаченко до маленького крепыша Копытько. Все были на месте — сигнальщики, гидроакустики, комендоры, радиометристы. Его ребята, его команда.
— Смирно! — Доскаль шагнул навстречу, забарабанил слова рапорта.
— Вольно,— сказал Горчаков,— по местам стоять.
Палуба заполнилась звонким, рассыпчатым грохотом ног.
Доскаль подошел. От него пахло одеколоном.
— Как там? — спросил.
Горчаков махнул рукой.
— Все будет в порядке, Сергей Николаевич...
Оказывается, Доскаль уже позаботился. Оперативным заступил их общий друг Трибрат. Обещал держать железно связь, сообщать все важное о состоянии Люды.
Горчаков благодарно стиснул ему руку. Они служили вместе всего несколько месяцев, но он не представлял себе кого-нибудь другого на месте Андрея Доскаля. Сейчас широкое веснушчатое лицо помощника вызывало у него нежность. Он отвернулся, чтобы не выдать себя.
— Воду сменили? — спросил.
— Полностью.
— Как с аккумуляторами для третьего?
— Порядок.
— Новую лоцию взяли в штабе?
— Вырвал, Сергей Николаевич, Всего шесть получили. Другим не досталось.
Впрочем, все это можно было и не спрашивать, Он знал, что Доскаль ничего не забудет.
— Ладно, двинули помаленьку.
Никто не провожал их, когда они отходили от стенки. Только дежурный по пирсу равнодушно помахал растопыренной пятерней. С большого плавкрана смотрели матросы в оранжевых спасательных жилетах. Вода была в радужных разводах от мазута.
Оки осторожно шли к выходу в море, лавируя среди кораблей, В бухте было тесно. Гремели динамики, заглушая резкие крики чаек.
Наконец они вышли к узкому горлу бухты, где стояли заградительные боны, и чуть-чуть прибавили ходу. Выветренные веками серо-коричневые утесы с древней сторожевой башней, видевшие, наверное, и римские триремы, и венецианские галеры, равнодушно смотрели на маленький верткий корабль.
Горчаков прошел в рубку. Там уже сидел на своем месте командир БМ4-5, а проще говоря — главный механик, старший лейтенант Цукадзе. Перед ним лежал номер английского технического журнала. Цукадзе поднял на Горчакова свои маслянисто-черные глаза:
— Что говорит медицина?
— Медицина безмолвствует,— в тон ему ответил Горчаков,
— Природе мешать не надо,— изрек Цукадзе и углубился в журнал. Он был убежденным холостяком, и все волнения Горчакова представлялись ему несущественными.
— Сергей Николаевич, я все-таки сделал отсекатель для маслопомпы,— сказал немного погодя.— Вроде получилось.
Он возился с этим отсекателем уже месяц. Корабль был новый, экспериментальный, и Цукадзе считал необходимым внести свою лепту в технический прогресс. Он втянул в это дело уже кое-кого из команды. Во всяком случае с одним из мотористов он частенько шушукался над тетрадкой.
— Добро, — сказал Горчаков.
Корабль уже вышел из бухты. Их окружала чистая темно-зеленая вода.
Горчаков наклонился к мегафону:
— Покинуть палубу.
Захлопнулись лючки, опустела палуба, выкрашенная серо-стальной шаровой краской. Только спаренные стволы скорострельной кормовой пушки одиноко смотрели в небо. Цукадзе закрыл журнал, руки легли на рукоятки секторов двигателей. Лицо стало напряженным и жестким. В рубку вошел Доскаль, встал за вращающимся креслом Горчакова.
— Полный...
Заревел, завыл двигатель. Облачко голубоватого дыма вспучилось и сейчас же пропало, унесенное ветром. Широкая и длинная пенная река возникла за кормой. Задрожал, содрогаясь, жестяной флажок на мачте.
Подпрыгивая, словно летающая рыба, несся корабль навстречу открытой синеве горизонта. Берега уходили назад, сглаживались резкие горные складки, одевались дымчатой синевой. Две чайки, летевшие за ними от самой базы, отстали, хрипло крича вдогонку, заваливаясь на крыло.
Горчаков наслаждался скоростью. Он только один раз на заводской акватории видел свой корабль со стороны во время хода. У него тогда захватило дыхание от волнения. Он влюбился сразу и бесповоротно. Он прощал своему кораблю и крошечные тесные каюты, и узкие лючки, и слишком легкий корпус.
— Сколько? — спросил Доскаль.
— Пятьдесят три узла,— ответил Цукадзе.
Да, такую скоростенку ему бы тогда на Курилах: не ушла бы от него та, трижды клятая японская шхуна. Он застал ее за ловом почти у самого берега, навел прожектор, увидел, как заметались по палубе низкорослые фигуры, что-то крича и рубя якорные концы. И сразу взревел на шхуне мотор, и она, прыгнув вперед, стала уходить, как от стоячего, от его старенького сторожевика.
Вспомнил, как он скрипел зубами от бессильной ярости, видя, что расплывается в тумане черное пятно шхуны и затихает, как в вате, скороговорка мотора.
Нет, теперь от него так просто не уйдешь, как не ушла эта нахальная фелюга с мощным мотором. Она, видимо, считала себя уже в безопасности. Он был от нее за пятьдесят миль, пошел на перехват и догнал у самой «нейтралки». Так-то!
...— Товарищ капитан-лейтенант, впереди бочка, расстояние два кабельтовых,— доложил сигнальщик.
Они точно вышли в квадрат. Доскаль, прокладывавший курс, подмигнул за спиной Горчакова: мол, знай наших.
Подошли к бочке. Лениво слетели с нее несколько грузных чаек. Сигнальщик умоляюще посмотрел на старпома, тот — на Горчакова. Горчаков усмехнулся:
— Валяй!
Это было любимое развлечение команды. Сигнальщик быстро скинул с себя робу и через невысокий леер ласточкой нырнул в воду. Через минуту он уже сидел верхом на бочке, закрепляя конец, и блаженно улыбался.
Они были на месте. Теперь предстояло долгие часы вести наблюдение, болтаясь на море, как щепка. Горчаков вздохнул. Он терпеть не мог таких заданий. Он слишком ревниво относился к своему кораблю. Его дело — активный поиск, скорость, перехват. Но ничего не сделаешь, задание есть задание.
...На корабле уже шла неторопливая, раз навсегда налаженная, работа. Он сам налаживал эту работу и теперь с гордостью следил, как уверенно и четко действуют все на своих местах. Мягко рокотал запасной движок. Подняли на талях и опустили в воду тяжелую рыбину акустического снаряда. Теперь гидроакустик Зинченко сидел в наушниках, с терпеливым и немного скорбным выражением лица вылавливая далекие подводные шумы.
Горчаков взглянул в сторону берега. Контуры его чуть угадывались, расплывчато голубели. Всего каких-нибудь два часа прошло с тех пор, как он покинул больничный дворик. Наверное, еще сидят в приемной на табуретках тот парень и дородная женщина! А он уже за сотню миль от них, в море.
Как там сейчас Люда? Он представил себе, как она в душной палате кусает губы, сдерживая крик, и у него снова заныло сердце. Почему до сих пор нет ничего от Трибрата?
Он вдруг вспомнил, как они впервые встретились с Людой. Он тогда учился в Ленинграде в училище на последнем курсе. Этот день перед увольнением выдался на редкость несчастливым — не пришло письмо от матери, он получил тройку по электротехнике и поссорился со своим помкомвзвода. Он вышел из проходной, чувствуя себя несчастным и одиноким. Товарищи в наглаженных форменках с училищными шевронами на рукавах, в лихо надвинутых мичманках громко смеялись, сговаривались идти в кино, потом в соседний парк на танцы. Он неожиданно откололся от всех, сел на троллейбус, поехал в центр, в Русский музей. Его потянуло к тишине, к строгой красоте картин, запаху старого лака, жужжанию невидимых вентиляторов. Оставалось два часа до закрытия, залы были почти пусты, дежурные подремывали на своих стульях.
Он обратил на нее внимание только потому, что в этом зале, кроме них, никого не было. Она переходила от картины к картине, что-то помечая в тетрадке. «Учителка», — решил он насмешливо. Он не удивился бы, увидев на ней очки. Но очков не было. Голубые глаза глянули на него сдержанно, но дружелюбно. Опытным мужским взглядом он отметил крепкие, стройные ноги в туго натянутых чулках, серый шерстяной костюм не подчеркивал, но и не скрывал линии тела. Она была коротко подстрижена, и это придавало ей какой-то независимый вид. Но вместе с тем в той тщательности, с которой она разглядывала картины, в некоторой скованности движений угадывалась провинциальная, не ленинградская прописка.
Она остановилась возле картины «Девятый вал». Он тоже подошел и стал смотреть. Это была его любимая картина. Краешком глаза он видел ее строгий профиль и руку, сжимавшую свернутую трубкой тетрадку.
— Какое фантастическое освещение,— неожиданно раздался ее голос,— не правда ли? Интересно, вот вы — моряк, видели такое?
Он невольно покраснел. Он не был робок с девушками и знал, как вести разговор. Но сейчас ему почему-то захотелось, чтобы она не подумала о нем, как о развязном фатоватом мореходе.
Он лихорадочно подыскивал слова, но не найдя их, сказал отрывисто:
— Я не очень в этом разбираюсь, но, по-моему, это здорово.
Она сухо кивнула, словно посвящая его в рыцари, а он подумал, что сказал в общем-то ерунду и замолчал. Они по-прежнему стояли рядом и смотрели на картину. Тонкая ниточка разговора опасно провисла, готовая порваться. Но их выручила дежурная.
— Закрываем, завтра досмотрите, товарищи молодожены.
Они переглянулись, покраснели и вдруг прыснули.
Вышли из музея вместе. Был обычный дождливый ленинградский вечер. Крепко пахло сырой землей в парках. Зыбкие огни первых фонарей отражались в Неве. Они шли и разговаривали, словно были знакомы уже давно. Он узнал, что она учится в Новгороде в пединституте на филологическом и что сегодня у нее «окно» и она специально приехала в Русский музей, а завтра рано утром уедет обратно.
Уже потом он не раз думал — как велика цена случайности: не приди он в этот день в музей, они никогда бы не встретились.
Они поженились перед самым распределением. Он получил назначение на Курилы.
Они пробыли на Курилах шесть лет. Мерзли сначала в деревянном японском домике, потом переселились в двухэтажное офицерское общежитие. Только на третий год она стала работать по специальности, в интернате, всего шесть часов в неделю, мизер для филолога, окончившего институт с отличием. Но она не унывала, находила себе работу, вела литературный кружок в Доме офицеров, заставила Горчакова заниматься английским языком, правила его отчеты и докладные записки. «Боже мой, что за дикие слова: «плавкран», «бербаза», это же насилие над языком». Он, улыбаясь отбивался: «По-твоему, «педсовет» лучше? Привыкли, и все...»
Только один раз он видел ее плачущей. Она получила письмо от подруги и, вкось разорвав конверт, читала его за столом. Потом сказала странным безжизненным голосом: «Боже мой, это ничтожество, Валька Тархова, в аспирантуре». И он увидел на глазах ее слезы. Они капали, капали прямо на бумагу, а она сидела неестественно прямо, словно эти слезы были не ее, а чьи-то чужие. Но это было один раз...
Нет, она была у него молодчина. Настоящая офицерская жена. Порой ему казалось невероятным, что она вышла замуж за него, такого обыкновенного и, по его мнению, скучноватого человека. Он ревновал ее к молодым офицерам на вечерах самодеятельности и сам потом смеялся над этим...
— Жарко будет сегодня...
Голос Доскаля вернул его к действительности. Он кивнул. Да, помощник прав, сегодня будет знойный день, Горчаков видел это по белесовато-голубому небу и сизой дымке над берегом. Уже сейчас все норовят пройти по палубе с наветренной стороны, где на металле лежит тень от рубки. Часам к двум все раскалится, в отсеках будет душно, как в сушильном шкафу. И никуда не уйдешь — вахта.
— В четырнадцать ноль-ноль — команда купаться.
— Есть.
Горчаков посмотрел на чистую, бутылочного цвета воду. В прошлом году они с Людой так и не побывали в отпуске из-за переезда. И этот год тоже не придется...
В два часа дня термометр показывал тридцать четыре градуса в тени. Тень от рубки съежилась наполовину, и в ней могли уместиться не более двух человек. Море словно подернулось масляной пленкой. Глаза болели от ярких солнечных бликов. Пустынный горизонт наводил тоску.
Наступила самая нудная пора. Береговые заставы молчали. База запросила обстановку и тоже умолкла. Лениво покачивался на мертвой зыби маленький дозорный корабль.
Прошли мористее танкер «Туркменистан» и самоходная баржа, на сигналы ответили правильно. Занервничал было рыбацкий траулер — давал позывные — но ничего, разобрались, получил внушение, пошел своим курсом. Час назад услышал акустик винты подводной лодки — оказалась наша, обменялись приветствиями, пожелали удачного плавания. И снова пустынно море, только солнце жарит сверху.
Горчаков вошел в рубку, снял фуражку. Вытер вспотевший лоб, взял вахтенный журнал. Можно было часок подремать в каюте, но он знал, что все равно не уснет. Час назад пришла радиограмма от Трибрата. «Ничего нового, состояние удовлетворительное». И сердце у него снова заныло. Пуще всего он боялся этих слов «нормальное», «удовлетворительное». Доктора — они никогда не скажут правду. Скажут «состояние удовлетворительное». Гуманисты, черт бы их побрал! Прошлый раз тоже все было «в пределах нормы». И он тоже был в море, как сегодня. Прямо наваждение какое-то. Стоп, хватит, нужно взять себя в руки.
Он повернулся в своем вращающемся кресле и стал смотреть, как возится с автопрокладчиком курса штурманский электрик Анатолий Лядов. Плечи у Лядова могучие, мужские, а губы пухлые, детские, выпятил их, словно играет в какую-то занятную игру, того и гляди высунет кончик языка от старательности.
Горчакова всегда поражало сочетание зрелости и ребячливости у этих молодых парней, служивших на корабле. Детство словно не спешило покинуть их и нет-нет да давало о себе знать. Когда они по тревоге стояли на постах, лица у них были мужские, жесткие и сосредоточенные, вены по-взрослому набухали на руках. Но стоило прозвучать «купальной» команде: «За борт!» — как они превращались в стаю ребятишек, хохотали и дурачились, как школьники.
Он был старше их всего на семь-восемь лет, но чувствовал себя по отношению к ним пожилым, чуть ли не отцом. Он уже был шесть лет женат. Пока человек не женат, он еще не мужчина. Недаром кто-то из плавсостава пустил остроту, что у женатого год службы нужно считать за два.
Он знал, что они между собой зовут его «Седой». Таким он наверное и казался им с обветренным неулыбчивым лицом, с гусиными лапками у глаз и ранней сединой.
Во время ночной вахты он любил иногда тихонько спуститься в кубрик и посмотреть, как они спят. Они смеялись во сне, бормотали, чмокали, и лица у них были добрыми и детскими. Он осторожно поправлял сползшую простыню и оглядывался — не видел ли кто-нибудь случайно.
Пожалуй, он сейчас понял, почему так хочет сына. Может быть и потому, что постоянно перед глазами у него были эти мускулистые юношеские тела, эти молодые, белозубые лица. И он, не отдавая себе в том отчета, мысленно выбирал себе из них сына.
Они были похожи друг на друга и в то же время были все разными.
Вон, к примеру, чистит в холодке картошку Виктор Копытько, корабельный кок — курносый, губастый, с аккуратной челочкой. Сидит на ящике из-под галет, под очистки приспособил тазик — ни одна картофельная шкурка не упадет на палубу. Прилежный, улыбчивый, хозяйственный (повезет какой-нибудь девахе!). В камбузе у него все блестит. С ним никогда никаких хлопот, исполнителен, радушен.
А вот выглянул из своей рубки радист Ткаченко, Красив Боря Ткаченко! Густые черные брови изломаны, как крыло чайки, карие мерцающие глаза, густые ресницы, нос с хищной горбинкой — от таких лиц трудно оторваться. Вспыльчив, обидчив хуже девушки. Самолюбив, как дьявол. Дело свое делает уверенно-небрежно, хватает все с полуслова, но нет в нем той требовательной усидчивости, которая необходима радисту. С ним еще придется повозиться, в трудную минуту могут подвести нервы.
Вон нацелил на берег бинокль сигнальщик Слава Лысых. С виду посмотришь — спокойное, скуластое лицо, юношеские прыщи еще держатся кое-где, бриться начал, видно, недавно. Ох, не просто было с тобой, Слава, не просто. Уже в учебном отряде заслужил славу разгильдяя — нагрубил начальству, дважды сидел на гауптвахте за самоволку. Когда формировали судовые команды, все командиры открещивались от него и руками и ногами — кому охота тащить такой балласт в море? И озлобился Лысых, опустил руки и уже не вылезал из штрафников — семь бед один ответ. Что заставило тогда Горчакова вопреки мнению командиров взять его в команду? Может быть, тот взгляд, который он поймал у сбычившегося, насупленного парня — взгляд, который резанул его по сердцу своей беззащитной юношеской горечью. А может быть вспомнил свою собственную биографию — у него ведь тоже был характер не из легких.
Он не ошибся — Лысых не подвел его ни разу. На последних учениях получил благодарность от маршала. Правда, по-прежнему был замкнут, друзей не заводил. Ничего, Слава, оттаешь помаленьку...
В рубку вошел Доскаль. Горчаков сразу увидел торжествующий блеск в его глазах.
— Морской бог за нас,— сказал он.
Горчаков взял из его рук листок: передавали штормовое предупреждение. С юга шел шторм, часа через три-четыре его можно было ожидать здесь. Он сразу понял, что имел в виду Доскаль. Шторм был опасен для их маленького корабля не меньше, чем для прогулочного катера. Мощная волна могла перевернуть легкое суденышко, скользящее по воде на своих медных крыльях. Значит, скоро их нудное дежурство кончится — придется возвращаться на базу. Значит, скоро он будет рядом с Людой...
— Обрадовался, сачок,— хмуро сказал он, но улыбка сама поползла сбоку.
— Какие будут указания, Сергей Николаевич? — Доскаль улыбался открыто. Все его веснушки сияли.
— Гидроакустику поднять на борт. Свернуть все потихоньку. Закрепить по-штормовому. Комендор пусть кончает возиться с пушкой. Готовиться к переходу.
— Есть,— Доскаль затопал по палубе.
Солнце по-прежнему светило ярко. Ветер потихоньку свежел. На горизонте появились быстро бегущие бледные облака.
Да, морской бог, кажется, за него, Горчакова. Дышать становилось легче. Он потер руки.
В рубку, отдуваясь, вошел Цукадзе. Рубашка на груди была расстегнута, волосатая грудь лоснилась от пота.
— Отсекатель работает, как часы, командир. Беру авторское свидетельство,— сказал внушительно. — Что, скоро домой?
— Не исключено,— сказал Горчаков,
— Товарищ капитан-лейтенант,— Ткаченко почти ворвался в рубку. Цыганские глаза его блестели от возбуждения,— семнадцатый вызывает.
Семнадцатый был позывной базы. Горчаков бегом спустился по ступенькам. Неужели, Трибрат?..
— Двадцатый слушает...
Глуховатый голос забубнил издалека:
— В квадрате шесть замечена резиновая лодка с пассажиром. Десять кабельтовых правее радиомаяка. Срочно идите на перехват. Как поняли?.. По имеющимся данным на лодке — ученик 9-го класса Савчук...
— Вас понял. Прием.
— Выполняйте.
Щелкнула мембрана. Только легкое потрескивание слышалось в аппарате. Горчаков перевел дыхание. Ему хотелось выругаться. Идти за сто миль в другой квадрат, искать булавку в стоге сена, когда шторм уже на носу. Что они там, с ума посходили? Но уже через минуту он подавил в себе досаду. Штабники были правы. Только его крылатый корабль мог совершить этот бросок и настигнуть нарушителя вблизи нейтральной полосы. К тому же они, черти, знали, что у него уже был опыт перехвата одиночной лодки. Правда, то была моторка. Да и море было тогда спокойное. Но все-таки...
Он с тоской подумал о Люде. Что ж, видно, так ему везет. Морской бог, видно, передумал...
Синеватая туча шла с юго-запада, заслоняя горизонт. Ветер свежел, море было измято, вода приобрела стальной блеск.
Он пружинисто взбежал по лесенке в рубку. Доскаль и Цукадзе уставились на него, когда он отрывисто бросил:
— Боевая тревога!
... Широкий и длинный, как река, пенный бурун кипел за кормой.
Двигатель работал на полную мощность, в рубке мелко вибрировал пол. На стекле то и дело косые потеки воды закрывали от Горчакова стриженый затылок сигнальщика Лысых. «Так и не натянул капюшон штормовки, сукин сын»,— подумал он.
Волна еще была невелика, но ветер крепчал с каждой минутой. Корабль иногда подпрыгивал на мгновение, как самолет на взлетной дорожке, и снова со звоном плюхался на волну.
Слева Цукадзе флегматично развалился в своем кресле, следя за оборотами двигателя и изредка подавая короткие сигналы мотористам. Зато Доскаль был в непрерывном движении: от штурманского столика, где потел с циркулем в руках Лядов, к командирскому креслу, оттуда к боковому стеклу рубки, опять к столику — он чертил зигзаги такие же замысловатые, как и курс корабля.
Трудно было поверить, что еще час назад они, голые по пояс, изнывали от жары на гладкой, как тарелка, воде. Все вокруг было вздыблено, черные тучи неслись по небу, ветер швырял в лицо холодную водяную пыль, пробиваясь даже через штормовки.
Вот оно, ласковое море. Будто кто-то погладил его против шерсти.
Они полчаса назад вышли точно к радиомаяку и теперь вели поиск в квадрате. Горчаков поставил двух сигнальщиков на мостике. Сам он вел наблюдение из рубки. Но вспененное море было пустынным.
Худое, смуглое лицо Горчакова было непроницаемо, но на душе у него было тревожно. Шторм нарастал. Хрупкий экспериментальный корабль — готов ли он к таким передрягам, сколько еще можно продолжать поиск? Ведь до бухты почти сто пятьдесят миль...
...Горчаков выскочил на мостик. Ветер ударил в лицо горстями брызг, завыло, зашумело в ушах. Лысых стоял справа на своем месте, не отнимая бинокля от глаз, словно прикипел к палубе. Капюшон штормовки бесновался за спиной.
— Ну как? — спросил Горчаков.
— Пусто, товарищ командир.
Горчаков вернулся в рубку, тяжело уселся в кресло. Рука дрожала, когда потянулся за папиросой. Закурил, откинулся на спинку. Сильный удар в правый борт, рубка накренилась, полетела на пол пачка «Беломора». Корабль выпрямился и сейчас же стал заваливаться влево.
Цукадзе выругался сквозь зубы.
— Нужно возвращаться, Сергей Николаевич,— Доскаль положил ему руку на плечо. В этом жесте было не только товарищеское участие, Доскаль словно предлагал разделить ответственность за принятое решение, мягко, но решительно напомнил о присутствии на борту их, офицеров.
«Там мальчишка в лодке, школьник»,— захотелось закричать Горчакову. Но он неожиданно жестко сказал:
— Продолжать поиск. Я здесь командую!
Он не обернулся, но представил себе, как густо побагровело доброе, широкое лицо Доскаля. Рука соскользнула с плеча.
— Есть...
— Включить прожектор!
— Есть.— Доскаль вышел из рубки.
«Ты мне простишь это, Доскаль. Я объясню тебе потом. Там чей-то сын, понимаешь? Я должен, понимаешь? Пока есть хоть крохотный шанс. Ты никогда не оказывался на лодочке в бушующем море. А мне пришлось. Я тоже тогда был пацаном. Просто я не рассказывал тебе об этом. И не расскажу, наверное, никогда. Потому что было так страшно, что об этом не расскажешь.
Он наклонился к Цукадзе:
— Обороты?
— Держит.
— Топливо?
— Пока хватит.
«Пока хватит»,— в голосе Цукадзе сквозило сдержанное неодобрение. Значит, он тоже считает поиск бессмысленным и опасным, считает его, Горчакова, вспышку просто раздраженной придурью начальства. А может, он прав?
Он снова вышел на мостик. Пол ходил ходуном, что-то каталось под ногами. Левый сигнальщик Зинченко тяжело свесился над фальшбортом: его рвало. Горчаков отвернулся, чувствуя, как тошнота подползает к горлу. «Нужно заменить Зинченко. Кого же поставить?» — машинально подумал он. Лысых еще держался крепко. Горчаков ухватился за леер, крикнул в спину ему:
— Как дела?
— Пусто.
Чья-то фигура появилась на мостике, на минуту заслонив свет прожектора, оттащила Зинченко, толкнула в дверь рубки. Горчаков узнал Доскаля. Тот, цепко хватаясь за поручень, приблизился, наблизил к лицу Горчакова свое разгоряченное лицо:
— Мог бы сказать не одному Лысых, командир. Все-таки вместе плаваем, не чужие.
«Значит, уже знает про мальчишку,— промелькнуло в голове у Горчакова,— значит, знает. Извини, дружище, что не сказал тебе сразу. Так уж получилось. Такой уж у меня сволочной характер, извини». Он хотел крикнуть весело и громко, но голос его прозвучал хрипло:
— Намек понял, исправлюсь.
Доскаль махнул рукой, отошел в угол, поднял бинокль, окуляры скупо блеснули под прожектором,
Горчаков вернулся в рубку, сел за пульт. Цукадзе хмуро смотрел перед собой, держась за аварийные скобы. Все ерзало и скрипело вокруг, вплетаясь визгливыми голосами в рев двигателя. Корабль тяжело нырял, вздрагивая, как живой. Горчакову почудилось, что он стонет.
«Нужно возвращаться,— тупо, однообразно заныло в висках. Он потер их, но боль не уходила.— Нужно возвращаться. Ничего не сделаешь. Больше рисковать нельзя...»
В рубку тяжело ввалился Доскаль. Откинул капюшон, струйки воды полились на пол, ладонью обтер широкое лицо. Встретился глазами с Горчаковым, покачал головой:
— Пусто.
Горчаков встал, зачем-то посмотрел на часы, сморщился, как от зубной боли. Сказал глухо:
— Идем назад.
— Еще немного пошарим, Сергей Николаевич.— Доскаль смотрел ему прямо в глаза, медленно затягивая тесемки капюшона. Бинокль косо висел у него на груди, весь в капельках воды, словно вспотел от работы.
В рубку ударило ветром, зашелестел страницами вахтенный журнал, Цукадзе невольно придержал фуражку — это ворвался Лысых, забыв задраить дверцу.
— Вижу плавающий предмет, четверть кабельтова справа.
В дверях рубки Горчаков чуть не застрял, бросившись к ней одновременно с Доскалем. Он вырвал у Лысых бинокль, крикнул сразу осевшим голосом:
— Курс на предмет, дать прожектор!
Стоп, не торопиться. Что это, запотели окуляры или слезятся глаза? Вот она, лодка. Ну да, резиновая лодка. Ай да Лысых!
— Самый малый ход. Шлюпку на воду,— это уже крикнул Доскаль.
Эх и покачает нас сейчас на малом ходу. Только бы не перевернуло. Нет, морской бог все-таки за нас...
Спасенного положили на койку в кабине Горчакова.
Сзади кто-то деликатно тронул командира за рукав:
— Радиограмма, товарищ капитан-лейтенант.
Только сейчас он снова вспомнил о Люде, и мысль о ней обожгла его старой тревогой. Он схватил из рук Ткаченко узкий листок, и строчки вдруг стали расплываться у него перед глазами, как ночные фонари. «Поздравляю дочкой, обнимаю, морской порядок. Ждем берегу, Трибрат».
Море ревело вокруг, а он готов был обнять эти волны, это серое злобное небо, целовать пляшущий пол палубы. Листочек вырвался у него из рук, метнулся по ветру, исчез за водяными хребтами. Горчаков качался, как пьяный.
"Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе... и тем кто сделал к ней первой шаг..."
- pogranec
- Администратор
- Сообщения: 3389
- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38
- место службы: Республика Беларусь
- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с
- Контактная информация:
Re: Всегда на страже (очерки, рассказы, повести)
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ
РЕКА БУГ — ГРАНИЦА РОДИНЫ
Повесть
Глава первая
Вечернее майское солнце, клонясь к Бугу, ярко осветило Ленинскую комнату, где в одиночестве сидел Алесь Куреня и писал письмо: «Как я радовался нашему крылатому счастью, которое перенесло тебя из нашей далекой вески в Брест, и теперь ты учишься совсем близко от меня. И мне грустно, что ты рядом, а я никак не могу с тобой встретиться. Ничего не поделаешь, милая моя Аксана. Уж такова участь солдата-пограничника... Не горюй, скоро встретимся. Я всегда с тобой и душой и сердцем»,— и чуть было не написал: «Целую». Но, поразмыслив, удержался и закончил фразой: «До скорой встречи! Алесь».
Аккуратно заклеив письмо Аксане, взялся за другое — родителям.
«Твой наказ, папа, я выполнил — школу окончил на «отлично»! Теперь я младший сержант, контролер. И прекрасно понял, как велика моя ответственность перед Родиной. Река Буг — граница нашей Отчизны. И я, папа, несу службу на этом рубеже, через который не должен проникнуть к нам ни один вражеский агент, и туда — ни один наш перебежчик, а также не должна проскользнуть здесь ни одна контрабанда. Так что видишь, отец, на каком ответственном участке стоит твой сын Алесь Куреня. Но я еще ничем не отличился. А может быть, папа, это и хорошо. Значит, едут к нам и от нас честные и с добрыми намерениями люди. А таких поездов мы пропускаем за сутки с десяток. Вот и вчера проезжала в Москву большая французская делегация. Не успели мы еще войти в вагон, как многоголосо загремело: «Вив иль амитье!» — Это значит: «Да здравствует дружба!» И так звучало, пока не остановил их французский представитель. Когда все смолкло, он, коверкая слова, зачитал по-русски:
— «Делегация рабочих Франции приветствует вас, воинов армии, которая спасла Европу от фашизма. А в вашем лице и народ вашей великой страны, страны, защищающей мир во всем мире! Да здравствует дружба советского и французского народов!»
И снова загудело: «Дружба! Дружба!» Здорово?.. Такое, папа, меня радует и волнует. Откровенно говоря, встречая иностранцев, которые еще на границе с доброй улыбкой приветствуют нас и восторженно выражают восхищение нашей страной, я горжусь за свою Родину, за наш народ, да и за самого себя.
Конечно, ты мне ответишь: «Алесь, не обольщайся! Будь бдительным, ведь это граница!» На это я тебе загодя отвечу: «Не волнуйся за меня, старый солдат. Свой долг пограничника я понимаю и выполняю его с честью».
Но тут солнечный луч добрался да глаз Алеся. Солдат поднялся, подошел к окну, чтобы шторой отгородиться от ослепляющего света, и увидел, как за болотцем, на входных путях полустанка «Буг», пограничники наряда осматривают товарный поезд, шедший за границу. На тендере трое из них с кем-то объяснялись. В одном из них Куреня узнал грозу вражеской агентуры, контрабандистов и валютчиков — аса КПП прапорщика Варлама Михайловича Кублашвили.
«Раз сам, значит, что-то серьезное»,— подумал Куреня. Теперь он стоял у окна и пытался разглядеть того, с кем объяснялись пограничники, но его не было видно.
Наконец прапорщик Кублашвили сделал распорядительный жест — пограничник, что стоял левее, опустился с тендера на уголь. За ним шагнул, поддерживаемый другим пограничником, странный человек: он казался худоба-худобой и весь, словно лакированный, сверкал на солнце.
— Что бы это значило? — проронил вслух Алесь. И, проводив взором пограничников и этого таинственного человека в будку паровоза, задернул штору.
Возвратясь к столу, Алесь так и не взялся больше за письмо: не терпелось узнать — кого же все-таки взял на тендере Варлам Михайлович? «Да на тендере ли? Похоже, что изнутри, из воды достал. Что за чертовщина в голову лезет?.. Поезд ведь идет за границу. Значит, это наш, советский человек? Какой к черту наш, коль прячется в баке? Видно из тех, кто ищет другой, легкой и прибыльной, жизни, отщепенец!..»
Алесь законвертовал письмо и с чувством исполненного долга вывел внизу: «Брест, в/ч №..., А.Н.Курене».
8а столом только и говорили о Кублашвили,
— Варлам Михайлович опять кого-то сцапал, да еще в баке с водой. Но как он догадался в воду бака посмотреть?..
И это «как» было на устах у всех. Решили после возвращения Кублашвили из наряда пригласить его в Ленинскую комнату и попросить рассказать об этом случае.
Прапорщик Кублашвили, несмотря на то что ему уже давно перевалило за сорок, выглядел удивительно молодо. Да и душа у него, надо сказать, была молодая. Он всегда охотно, прямо-таки с юношеским задором делился с новичками своим немалым опытом службы на границе, учил их, как поступать, как вести себя в том или ином случае.
Бот и сейчас, когда пограничники заполнили Ленинскую комнату, он без промедления начал:
— Вы спрашиваете — как? Скажу вам — просто и не просто. Просто то, что взял да и забрался на бак, посмотрел в воду, увидел там человека и скомандовал ему: «Выходи!» И не просто — ведь надо заметить или почувствовать малейшую ненормальность в общем облике системы, вещи, натуры. А для этого, друзья, пограничнику нужны аналитический ум, острый глаз и пограничная бдительность. И, конечно, хорошее знание предмета осмотра.— Тут в его карих глазах проскользнула хитринка, и он, разделяя слова, добавил: — И повадку человека. Вернее, его психологию. При досмотре следует быть очень и очень внимательным, не упускать ни одной детали, ни одной мелочи. Вот так-то! А теперь вернемся к нашему случаю. Но должен сказать, что беглеца в баке тендера обнаружил не я, а он,— Кублашвили глазами показал на сидевшего рядом ефрейтора.— Товарищ Пичугин лучше, чем я, расскажет вам об этом.
Пичугин явно смутился, когда командир роты предоставил ему слово:
— Вы спрашиваете, как я обнаружил? Да очень просто. Уж было собрался доложить товарищу прапорщику,— он находился внизу у паровоза,— что досмотр тендера закончен, как вспомнил его указание: «Не забудь в баки заглянуть». Заглянул в горловину и вижу,— Пичугин медленно и плавно покачал ладонью,— вода чуть-чуть как бы колышется.— «От чего бы это могло быть?» — думаю я.— Тендер стоит на месте, да и ветра нет, а вода,— он снова колыхнул ладонью,— того, дышит? Я взял да туда щупом, и чувствую, попал во что-то, похожее на мешок. Поднажал на щуп и оттуда из-под воды вдруг человечья голова. Тут я схватил его за плечи, вытянул на бак и скомандовал: — «Руки вверх! Встать!» А он, как все равно припечатался своим мокрым задом к баку, так и сидит и, щелкая от холода зубами, бубнит: «Твоя, пограничник, взяла. Теперь смерть мне будет.— И тут вытаскивает из-за пояса целлофановый мешочек, полный денег, сует его мне: — «Возьми, все равно пропадут, а меня отпусти... Бери, никто не узнает».
— А ты?
— Если бы я был не пограничник, то тут же,— ефрейтор Пичугин потряс кулаком,— опустил бы его обратно головой в бак. Но в нашем деле, сами знаете, нельзя. И я крикнул: «Товарищ прапорщик! Задержан нарушитель!» А дальше пошло, как говорит наставление.
— А как же он попал в бак, ведь на паровозе бригада?
— Бригада тут не виновата,— ответил Кублашвили.— Заправив паровоз, она ушла в дежурку, вот тут-то нарушитель со стороны заднего буфера и сиганул на тендер. Так что видите, какие неожиданности бывают в нашей службе... Отсюда — бдительность и еще раз бдительность!
Для подтверждения этого я вам расскажу еще случай задержания у черты границы, вернее, у самого моста через Буг. Это было в конце марта в сумерки. Как бы назло нам, в тот день закрутила метель. И вот в такую снежную крутель мы благополучно закончили досмотр грузового поезда и отправили его за границу. Паровоз уже вкатился на пограничный мост на Буге, и вдруг со стороны моста раздался выстрел. Я с нарядом бегом туда.
Подбегаем и видим: на насыпи у самого пограничного столба стоит рядовой Макаренков с автоматом в руках, из-под его подошвы торчит лезвие ножа и здесь же, у его ног, лежит, задрав руки вверх, здоровеннейший, бандитского вида детина.
«В чем дело?» — спрашиваю я.— «Да вот задержал нарушителя, товарищ прапорщик,— докладывает Макаренков.— Как только поезд паровозом взошел на мост, так он, словно пантера, бросился из кустов на первую площадку товарного вагона, еще секунда-две и уже был бы за границей. Но тут я прыжком схватил его за шиворот, сдернул с подножки и на лопатки. Так он, бандюга, вскочил и на меня с ножом. Но тут я его подсек носком, да так, что он здесь же и распластался».
— Это что ж, тоже наш? — раздался взволнованный голос со средины сидевших пограничников-новичков.
— Наш, уголовник. Убегал за границу от суда,— пояснил Кублашвили.
— Товарищ прапорщик,— Алесь обратился к Кублашвили,— расскажите, пожалуйста, как вы обнаружили контрабанду в топке паровоза?
— Было и такое,— улыбнулся Кублашвили и начал: — Поезд направлялся за границу. Мы начали досмотр с паровоза. Осмотрели и ничего не обнаружили, уже собрались уходить, как я обратил внимание на кочергу — она наполовину темнела сыростью. «В чем дело? — подумал я.— Отчего? На дворе-то сухо. Значит, ее совали в воду?» — И я в уме стал перебирать все случаи, где бы она в кочегарном деле могла так вымокнуть? Выходит, что не иначе, как в воде тендера. Почему? Выходит, что там что-то ловили? И я решил прогуляться ею по дну бака. Но, взяв кочергу, остановился, так как вижу, что ее мокрая поверхность искрится. Я провел пальцем по ее загогулине, на нем осела мокрая угольная пыльца. Значит, ею совсем недавно мешали мокрый уголь. Но где?.. Открыл топку — там гулял синеватый жар. Взял в руки уголь с тендера — сухой.
«Что делал с кочергой?» — спрашиваю я помощника машиниста, стуча по мокрому концу кочерги. Тот что-то непонятное бормочет, хоть переводчика вызывай, и показывает, что якобы он нечаянно сунул кочергу в ведро с водой.
«Положим, так,— рассуждаю я.— Но тогда как могла сырость забраться так высоко и, во-вторых, почему с кочерги не смылась угольная пыльца?» — Нет, вижу, не то говорит помощник, да ко всему этому машинист молчит, усердно протирая рычаги. Подозрительно! И пришел к выводу, что кочерга могла стать мокрой в топке. Как? И я решил прошуровать горящий уголь. Запустил кочергу в топку на всю ее глубину, добрался до самых колосников, потянул на себя и за что-то зацепил. Еще раз прошелся по колосникам и снова зацепил. Вытаскиваю кочергу, а она отсырела пуще прежнего. Отбросили мы жар подальше, а там, смотрю, толстый слой мокрого угля. Взглянул на машиниста и его помощника — их лица мрачнее тучи. Я передал лопату машинисту и приказал разгрести. Надо было вам в это время на него посмотреть, как до неузнаваемости, словно от боли, перекосило его лицо; пышные усы развернулись по диагонали, а из-под рыжих бровей по-волчьи смотрели злые-презлые глаза. Откровенно говоря, я посматривал, как бы он меня, того, не огрел лопатой, которую от злости перекидывая с ладони на ладонь. Нет, смотрю, он бросил своему помощнику и рыкнул ему по-своему: «Разгребай!» А сам отошел в угол, отвернулся от топки и от нас, как бы занявшись манометром, и повернулся лицом только тогда, когда мы наконец вытащили из топки толстую железную трубку и грохнули ее на пол. Один конец ее был сплющен, а другой наглухо завинчен пробкой.
«Что здесь?» — стуча по трубе, спрашиваю машиниста. Он пожимает плечами, говорит: «Мы ничего не клали».
«Ах, раз так, тогда идемте со мной». Привел их к дежурному. Там отвинтили в трубе пробку и из нее высыпались на стол — золотые монеты, разные кольца, брошки, серьги и другие ценности.
— А что с паровозной бригадой? — спросили пограничники.
— Составили акт и отпустили. Поезд задерживать нельзя. Вот и все.
Поднялось множество рук, и посыпались просьбы рассказать еще что-нибудь.
— Говорят, вы обнаружили тайник с сионистскими листовками и брошюрами?.. Расскажите, как это было...
Алесь тоже поднял руку, намереваясь спросить, как это Кублашвили иногда по глазам и по поведению приезжающего или уезжающего чувствует, что он что-то тайно везет?.. Но тут встал командир роты.
— Товарищи, я понимаю, что вам хочется от Варлама Михайловича узнать как можно больше. Но надо и честь знать. Конечно, он интересный человек. О нем можно написать замечательную книгу. Тридцать лет его фронтовой и пограничной службы уже о многом говорят. Только у нас на службе он задержал двадцать восемь опасных нарушителей. Посмотрите на его грудь — на ней красуются три ряда орденских ленточек, и их венчает ленточка дорогого нам ордена Октябрьской революции,— и тут вспыхнули дружные аплодисменты.— К сказанному рад вам сообщить, что Варлам Михайлович первый из пограничников удостоен этой высокой награды. Так будем же, товарищи, добросердечными и отпустим Варлама Михайловича и его помощников, ведь они только что с наряда.
Глава вторая
Сегодня получилось не так, как хотелось Алесю: еще вчера он мечтал взять увольнение в город и там встретиться с Аксаной. Но не судьба: в обед неожиданно появился начклуба и подобно конферансье объявил:
— Участники самодеятельности! Сразу после обеда одеться в выходное и в клуб. Едем выступать в колхоз «Пограничник»!
Участники радостно зашумели. Лишь Алесь понуро допивал компот.
Через какие-нибудь полчаса ансамбль двинулся в путь, а через час уже был в колхозе. Подъехали прямо к колхозному клубу, который вызвал у пограничников восхищение своей строгой красотой.
До начала представления еще было время, и колхозники пригласили пограничников к себе: мол, посмотрите, как мы живем. Каждый их дом делился на две квартиры, и вот в одну из них — в квартиру тракториста — попала группа Курени.
Войдя в столовую,— а из нее были видны и две другие комнаты,— Алесь еще на пороге остановился: современная мебель, красивые люстры, большой телевизор на ножках... Здорово! Как в большом городе, даже водопровод и газ.
И невольно подумал, что у них в колхозе многие люди живут еще по старинке.
Решил сегодня же обо всем написать домой. «Б нашем колхозе люди хорошие, и такое они тоже сотворить могут,— шагая к клубу, мысленно рассуждал он.— Только их надо на такое дело воодушевить... Пусть-ка сюда приедут, посмотрят на эту новую жизнь, на колхозное богатство и, конечно, загорятся сделать свой колхоз таким же, как и этот. Да и Дом культуры такой же отстроят»,— Алесь смотрел на клуб, где на площадке по-праздничному одетый народ рукоплескал танцорам, отплясывавшим полечку. Особенно лихо отбивала дробь перед чубатым парнем белокурая девушка.
— Ба! Ды гэта ж Аксана? — удивился Алесь.— Конечно, она,— и поспешил к кругу.
Аксана, увидев его, зарделась ярким румянцем и выкрикнула, приплясывая:
— Алесь, здравствуй! Давай сюда! — и, развернувшись к нему лицом, по-цыгански затрясла плечами, да так, что он, вопреки своей застенчивости, влетел в круг, молодцевато встал перед ней, залихватски отшлепал ладонями по «голенищам», потом по колену, притопнул и, взяв Аксану за плечи, повел ее по кругу. Его друзья-пограничники, подхваченные весельем, тоже пустились в пляс с девчатами. А Куреня, воспользовавшись этим, вывел Аксану из круга и увлек ее в тенек липы, на скамеечку.
— Какими ты здесь судьбами? — спросил он.— Ты ж живешь в Бресте.
— А я здесь на практике,— Аксана влюбленно смотрела на него.
— Покажи дом, в котором живешь.
— А мы, практикантки, живем в соседней веске, отсюда недалечко. Если идти той дорогой,— показала она на проселок,— то придешь прямо к нашему дому.— И ее взор говорил:— «Идем!»
Алесь взгрустнул: нельзя ему уходить.
— Жаль,— проронил он.
— Ты чего? — Аксана дернула его за полу мундира.— Брось думать! Нельзя так нельзя. Ты ж солдат.
— Постой.— Алесь тихонько погладил ее руку.— Я думаю, что бы тебе подарить такое, что было бы тебе приятно и к лицу?
— Спасибо, Алесь. Ничего мне не надо.— И продолжила строками из стихов Некрасова, несколько их переиначив и заменив слово «любить» — словом «дружить»: — Мы и так будем друг с другом дружить, так не траться, сокол мой ясный.
В этот момент Алесь готов был ее расцеловать и сказать то, чего никогда еще не говорил, но, сам не зная почему, удержался.
— Сегодня, Аксана, ты мне особенно нравишься,— как бы выдохнул он.
Но как ни скрывал Алесь свое чувство, все же тон, которым он сказал, взбудоражил сердце Аксаны, и она ответила:
— Ты мне тоже,— и покраснела ярче макового цвета.— Пройдемся по дорожке,— поднялась она. И они медленно направились в сторону поля.
— Внимание! Внимание! Пограничники приглашаются в клуб на сцену! — прогремел несколько раз репродуктор.
Алесь заторопился:
— Не прощаюсь — увидимся. Как только кончится выступление, я сразу же выйду. Жди на скамеечке.
Уже густые сумерки скрывали постройки, когда Алесь подбежал к условленному месту. Народ, не торопясь, плыл из клуба, восторгаясь выступлением пограничников. Курене казалось, что этому шествию не будет конца. Наконец, окруженная подругами, вышла и Аксана.
Времени у Алеся было в обрез — уж такова, военная служба, где все подчинено расписанию,— и он, извинившись перед девушками, взял Аксану под руку и повел по тропке, подальше от людского шума и глаза.
— Когда же, Аксана, мы теперь встретимся? — остановился он у той самой липы, что днем укрывала их своей тенью.
— Если ничего подобного не случится, то только осенью, когда начнется учеба.
— Осенью? Так долго? — в голосе Алеся прозвучала печаль.— Может быть представится возможность вырваться в город, то дай весточку, и я на это время выхлопочу увольнительную.
— Хорошо, дам,— только и успела сказать Аксана: просигналила машина.
Алесь двумя ладонями взял ее голову и поцеловал в щеку.
— До свидания, Аксана!
Аксана провожала его до самой машины и там в толпе колхозников так же, как и они, махала рукой, не спуская глаз с Алеся.
Машина, набирая скорость, уже потонула в темноте ночи, а колхозники все еще не расходились, делясь своими впечатлениями о пограничниках. Только Аксана одиноко брела в сторону дома.
РЕКА БУГ — ГРАНИЦА РОДИНЫ
Повесть
Глава первая
Вечернее майское солнце, клонясь к Бугу, ярко осветило Ленинскую комнату, где в одиночестве сидел Алесь Куреня и писал письмо: «Как я радовался нашему крылатому счастью, которое перенесло тебя из нашей далекой вески в Брест, и теперь ты учишься совсем близко от меня. И мне грустно, что ты рядом, а я никак не могу с тобой встретиться. Ничего не поделаешь, милая моя Аксана. Уж такова участь солдата-пограничника... Не горюй, скоро встретимся. Я всегда с тобой и душой и сердцем»,— и чуть было не написал: «Целую». Но, поразмыслив, удержался и закончил фразой: «До скорой встречи! Алесь».
Аккуратно заклеив письмо Аксане, взялся за другое — родителям.
«Твой наказ, папа, я выполнил — школу окончил на «отлично»! Теперь я младший сержант, контролер. И прекрасно понял, как велика моя ответственность перед Родиной. Река Буг — граница нашей Отчизны. И я, папа, несу службу на этом рубеже, через который не должен проникнуть к нам ни один вражеский агент, и туда — ни один наш перебежчик, а также не должна проскользнуть здесь ни одна контрабанда. Так что видишь, отец, на каком ответственном участке стоит твой сын Алесь Куреня. Но я еще ничем не отличился. А может быть, папа, это и хорошо. Значит, едут к нам и от нас честные и с добрыми намерениями люди. А таких поездов мы пропускаем за сутки с десяток. Вот и вчера проезжала в Москву большая французская делегация. Не успели мы еще войти в вагон, как многоголосо загремело: «Вив иль амитье!» — Это значит: «Да здравствует дружба!» И так звучало, пока не остановил их французский представитель. Когда все смолкло, он, коверкая слова, зачитал по-русски:
— «Делегация рабочих Франции приветствует вас, воинов армии, которая спасла Европу от фашизма. А в вашем лице и народ вашей великой страны, страны, защищающей мир во всем мире! Да здравствует дружба советского и французского народов!»
И снова загудело: «Дружба! Дружба!» Здорово?.. Такое, папа, меня радует и волнует. Откровенно говоря, встречая иностранцев, которые еще на границе с доброй улыбкой приветствуют нас и восторженно выражают восхищение нашей страной, я горжусь за свою Родину, за наш народ, да и за самого себя.
Конечно, ты мне ответишь: «Алесь, не обольщайся! Будь бдительным, ведь это граница!» На это я тебе загодя отвечу: «Не волнуйся за меня, старый солдат. Свой долг пограничника я понимаю и выполняю его с честью».
Но тут солнечный луч добрался да глаз Алеся. Солдат поднялся, подошел к окну, чтобы шторой отгородиться от ослепляющего света, и увидел, как за болотцем, на входных путях полустанка «Буг», пограничники наряда осматривают товарный поезд, шедший за границу. На тендере трое из них с кем-то объяснялись. В одном из них Куреня узнал грозу вражеской агентуры, контрабандистов и валютчиков — аса КПП прапорщика Варлама Михайловича Кублашвили.
«Раз сам, значит, что-то серьезное»,— подумал Куреня. Теперь он стоял у окна и пытался разглядеть того, с кем объяснялись пограничники, но его не было видно.
Наконец прапорщик Кублашвили сделал распорядительный жест — пограничник, что стоял левее, опустился с тендера на уголь. За ним шагнул, поддерживаемый другим пограничником, странный человек: он казался худоба-худобой и весь, словно лакированный, сверкал на солнце.
— Что бы это значило? — проронил вслух Алесь. И, проводив взором пограничников и этого таинственного человека в будку паровоза, задернул штору.
Возвратясь к столу, Алесь так и не взялся больше за письмо: не терпелось узнать — кого же все-таки взял на тендере Варлам Михайлович? «Да на тендере ли? Похоже, что изнутри, из воды достал. Что за чертовщина в голову лезет?.. Поезд ведь идет за границу. Значит, это наш, советский человек? Какой к черту наш, коль прячется в баке? Видно из тех, кто ищет другой, легкой и прибыльной, жизни, отщепенец!..»
Алесь законвертовал письмо и с чувством исполненного долга вывел внизу: «Брест, в/ч №..., А.Н.Курене».
8а столом только и говорили о Кублашвили,
— Варлам Михайлович опять кого-то сцапал, да еще в баке с водой. Но как он догадался в воду бака посмотреть?..
И это «как» было на устах у всех. Решили после возвращения Кублашвили из наряда пригласить его в Ленинскую комнату и попросить рассказать об этом случае.
Прапорщик Кублашвили, несмотря на то что ему уже давно перевалило за сорок, выглядел удивительно молодо. Да и душа у него, надо сказать, была молодая. Он всегда охотно, прямо-таки с юношеским задором делился с новичками своим немалым опытом службы на границе, учил их, как поступать, как вести себя в том или ином случае.
Бот и сейчас, когда пограничники заполнили Ленинскую комнату, он без промедления начал:
— Вы спрашиваете — как? Скажу вам — просто и не просто. Просто то, что взял да и забрался на бак, посмотрел в воду, увидел там человека и скомандовал ему: «Выходи!» И не просто — ведь надо заметить или почувствовать малейшую ненормальность в общем облике системы, вещи, натуры. А для этого, друзья, пограничнику нужны аналитический ум, острый глаз и пограничная бдительность. И, конечно, хорошее знание предмета осмотра.— Тут в его карих глазах проскользнула хитринка, и он, разделяя слова, добавил: — И повадку человека. Вернее, его психологию. При досмотре следует быть очень и очень внимательным, не упускать ни одной детали, ни одной мелочи. Вот так-то! А теперь вернемся к нашему случаю. Но должен сказать, что беглеца в баке тендера обнаружил не я, а он,— Кублашвили глазами показал на сидевшего рядом ефрейтора.— Товарищ Пичугин лучше, чем я, расскажет вам об этом.
Пичугин явно смутился, когда командир роты предоставил ему слово:
— Вы спрашиваете, как я обнаружил? Да очень просто. Уж было собрался доложить товарищу прапорщику,— он находился внизу у паровоза,— что досмотр тендера закончен, как вспомнил его указание: «Не забудь в баки заглянуть». Заглянул в горловину и вижу,— Пичугин медленно и плавно покачал ладонью,— вода чуть-чуть как бы колышется.— «От чего бы это могло быть?» — думаю я.— Тендер стоит на месте, да и ветра нет, а вода,— он снова колыхнул ладонью,— того, дышит? Я взял да туда щупом, и чувствую, попал во что-то, похожее на мешок. Поднажал на щуп и оттуда из-под воды вдруг человечья голова. Тут я схватил его за плечи, вытянул на бак и скомандовал: — «Руки вверх! Встать!» А он, как все равно припечатался своим мокрым задом к баку, так и сидит и, щелкая от холода зубами, бубнит: «Твоя, пограничник, взяла. Теперь смерть мне будет.— И тут вытаскивает из-за пояса целлофановый мешочек, полный денег, сует его мне: — «Возьми, все равно пропадут, а меня отпусти... Бери, никто не узнает».
— А ты?
— Если бы я был не пограничник, то тут же,— ефрейтор Пичугин потряс кулаком,— опустил бы его обратно головой в бак. Но в нашем деле, сами знаете, нельзя. И я крикнул: «Товарищ прапорщик! Задержан нарушитель!» А дальше пошло, как говорит наставление.
— А как же он попал в бак, ведь на паровозе бригада?
— Бригада тут не виновата,— ответил Кублашвили.— Заправив паровоз, она ушла в дежурку, вот тут-то нарушитель со стороны заднего буфера и сиганул на тендер. Так что видите, какие неожиданности бывают в нашей службе... Отсюда — бдительность и еще раз бдительность!
Для подтверждения этого я вам расскажу еще случай задержания у черты границы, вернее, у самого моста через Буг. Это было в конце марта в сумерки. Как бы назло нам, в тот день закрутила метель. И вот в такую снежную крутель мы благополучно закончили досмотр грузового поезда и отправили его за границу. Паровоз уже вкатился на пограничный мост на Буге, и вдруг со стороны моста раздался выстрел. Я с нарядом бегом туда.
Подбегаем и видим: на насыпи у самого пограничного столба стоит рядовой Макаренков с автоматом в руках, из-под его подошвы торчит лезвие ножа и здесь же, у его ног, лежит, задрав руки вверх, здоровеннейший, бандитского вида детина.
«В чем дело?» — спрашиваю я.— «Да вот задержал нарушителя, товарищ прапорщик,— докладывает Макаренков.— Как только поезд паровозом взошел на мост, так он, словно пантера, бросился из кустов на первую площадку товарного вагона, еще секунда-две и уже был бы за границей. Но тут я прыжком схватил его за шиворот, сдернул с подножки и на лопатки. Так он, бандюга, вскочил и на меня с ножом. Но тут я его подсек носком, да так, что он здесь же и распластался».
— Это что ж, тоже наш? — раздался взволнованный голос со средины сидевших пограничников-новичков.
— Наш, уголовник. Убегал за границу от суда,— пояснил Кублашвили.
— Товарищ прапорщик,— Алесь обратился к Кублашвили,— расскажите, пожалуйста, как вы обнаружили контрабанду в топке паровоза?
— Было и такое,— улыбнулся Кублашвили и начал: — Поезд направлялся за границу. Мы начали досмотр с паровоза. Осмотрели и ничего не обнаружили, уже собрались уходить, как я обратил внимание на кочергу — она наполовину темнела сыростью. «В чем дело? — подумал я.— Отчего? На дворе-то сухо. Значит, ее совали в воду?» — И я в уме стал перебирать все случаи, где бы она в кочегарном деле могла так вымокнуть? Выходит, что не иначе, как в воде тендера. Почему? Выходит, что там что-то ловили? И я решил прогуляться ею по дну бака. Но, взяв кочергу, остановился, так как вижу, что ее мокрая поверхность искрится. Я провел пальцем по ее загогулине, на нем осела мокрая угольная пыльца. Значит, ею совсем недавно мешали мокрый уголь. Но где?.. Открыл топку — там гулял синеватый жар. Взял в руки уголь с тендера — сухой.
«Что делал с кочергой?» — спрашиваю я помощника машиниста, стуча по мокрому концу кочерги. Тот что-то непонятное бормочет, хоть переводчика вызывай, и показывает, что якобы он нечаянно сунул кочергу в ведро с водой.
«Положим, так,— рассуждаю я.— Но тогда как могла сырость забраться так высоко и, во-вторых, почему с кочерги не смылась угольная пыльца?» — Нет, вижу, не то говорит помощник, да ко всему этому машинист молчит, усердно протирая рычаги. Подозрительно! И пришел к выводу, что кочерга могла стать мокрой в топке. Как? И я решил прошуровать горящий уголь. Запустил кочергу в топку на всю ее глубину, добрался до самых колосников, потянул на себя и за что-то зацепил. Еще раз прошелся по колосникам и снова зацепил. Вытаскиваю кочергу, а она отсырела пуще прежнего. Отбросили мы жар подальше, а там, смотрю, толстый слой мокрого угля. Взглянул на машиниста и его помощника — их лица мрачнее тучи. Я передал лопату машинисту и приказал разгрести. Надо было вам в это время на него посмотреть, как до неузнаваемости, словно от боли, перекосило его лицо; пышные усы развернулись по диагонали, а из-под рыжих бровей по-волчьи смотрели злые-презлые глаза. Откровенно говоря, я посматривал, как бы он меня, того, не огрел лопатой, которую от злости перекидывая с ладони на ладонь. Нет, смотрю, он бросил своему помощнику и рыкнул ему по-своему: «Разгребай!» А сам отошел в угол, отвернулся от топки и от нас, как бы занявшись манометром, и повернулся лицом только тогда, когда мы наконец вытащили из топки толстую железную трубку и грохнули ее на пол. Один конец ее был сплющен, а другой наглухо завинчен пробкой.
«Что здесь?» — стуча по трубе, спрашиваю машиниста. Он пожимает плечами, говорит: «Мы ничего не клали».
«Ах, раз так, тогда идемте со мной». Привел их к дежурному. Там отвинтили в трубе пробку и из нее высыпались на стол — золотые монеты, разные кольца, брошки, серьги и другие ценности.
— А что с паровозной бригадой? — спросили пограничники.
— Составили акт и отпустили. Поезд задерживать нельзя. Вот и все.
Поднялось множество рук, и посыпались просьбы рассказать еще что-нибудь.
— Говорят, вы обнаружили тайник с сионистскими листовками и брошюрами?.. Расскажите, как это было...
Алесь тоже поднял руку, намереваясь спросить, как это Кублашвили иногда по глазам и по поведению приезжающего или уезжающего чувствует, что он что-то тайно везет?.. Но тут встал командир роты.
— Товарищи, я понимаю, что вам хочется от Варлама Михайловича узнать как можно больше. Но надо и честь знать. Конечно, он интересный человек. О нем можно написать замечательную книгу. Тридцать лет его фронтовой и пограничной службы уже о многом говорят. Только у нас на службе он задержал двадцать восемь опасных нарушителей. Посмотрите на его грудь — на ней красуются три ряда орденских ленточек, и их венчает ленточка дорогого нам ордена Октябрьской революции,— и тут вспыхнули дружные аплодисменты.— К сказанному рад вам сообщить, что Варлам Михайлович первый из пограничников удостоен этой высокой награды. Так будем же, товарищи, добросердечными и отпустим Варлама Михайловича и его помощников, ведь они только что с наряда.
Глава вторая
Сегодня получилось не так, как хотелось Алесю: еще вчера он мечтал взять увольнение в город и там встретиться с Аксаной. Но не судьба: в обед неожиданно появился начклуба и подобно конферансье объявил:
— Участники самодеятельности! Сразу после обеда одеться в выходное и в клуб. Едем выступать в колхоз «Пограничник»!
Участники радостно зашумели. Лишь Алесь понуро допивал компот.
Через какие-нибудь полчаса ансамбль двинулся в путь, а через час уже был в колхозе. Подъехали прямо к колхозному клубу, который вызвал у пограничников восхищение своей строгой красотой.
До начала представления еще было время, и колхозники пригласили пограничников к себе: мол, посмотрите, как мы живем. Каждый их дом делился на две квартиры, и вот в одну из них — в квартиру тракториста — попала группа Курени.
Войдя в столовую,— а из нее были видны и две другие комнаты,— Алесь еще на пороге остановился: современная мебель, красивые люстры, большой телевизор на ножках... Здорово! Как в большом городе, даже водопровод и газ.
И невольно подумал, что у них в колхозе многие люди живут еще по старинке.
Решил сегодня же обо всем написать домой. «Б нашем колхозе люди хорошие, и такое они тоже сотворить могут,— шагая к клубу, мысленно рассуждал он.— Только их надо на такое дело воодушевить... Пусть-ка сюда приедут, посмотрят на эту новую жизнь, на колхозное богатство и, конечно, загорятся сделать свой колхоз таким же, как и этот. Да и Дом культуры такой же отстроят»,— Алесь смотрел на клуб, где на площадке по-праздничному одетый народ рукоплескал танцорам, отплясывавшим полечку. Особенно лихо отбивала дробь перед чубатым парнем белокурая девушка.
— Ба! Ды гэта ж Аксана? — удивился Алесь.— Конечно, она,— и поспешил к кругу.
Аксана, увидев его, зарделась ярким румянцем и выкрикнула, приплясывая:
— Алесь, здравствуй! Давай сюда! — и, развернувшись к нему лицом, по-цыгански затрясла плечами, да так, что он, вопреки своей застенчивости, влетел в круг, молодцевато встал перед ней, залихватски отшлепал ладонями по «голенищам», потом по колену, притопнул и, взяв Аксану за плечи, повел ее по кругу. Его друзья-пограничники, подхваченные весельем, тоже пустились в пляс с девчатами. А Куреня, воспользовавшись этим, вывел Аксану из круга и увлек ее в тенек липы, на скамеечку.
— Какими ты здесь судьбами? — спросил он.— Ты ж живешь в Бресте.
— А я здесь на практике,— Аксана влюбленно смотрела на него.
— Покажи дом, в котором живешь.
— А мы, практикантки, живем в соседней веске, отсюда недалечко. Если идти той дорогой,— показала она на проселок,— то придешь прямо к нашему дому.— И ее взор говорил:— «Идем!»
Алесь взгрустнул: нельзя ему уходить.
— Жаль,— проронил он.
— Ты чего? — Аксана дернула его за полу мундира.— Брось думать! Нельзя так нельзя. Ты ж солдат.
— Постой.— Алесь тихонько погладил ее руку.— Я думаю, что бы тебе подарить такое, что было бы тебе приятно и к лицу?
— Спасибо, Алесь. Ничего мне не надо.— И продолжила строками из стихов Некрасова, несколько их переиначив и заменив слово «любить» — словом «дружить»: — Мы и так будем друг с другом дружить, так не траться, сокол мой ясный.
В этот момент Алесь готов был ее расцеловать и сказать то, чего никогда еще не говорил, но, сам не зная почему, удержался.
— Сегодня, Аксана, ты мне особенно нравишься,— как бы выдохнул он.
Но как ни скрывал Алесь свое чувство, все же тон, которым он сказал, взбудоражил сердце Аксаны, и она ответила:
— Ты мне тоже,— и покраснела ярче макового цвета.— Пройдемся по дорожке,— поднялась она. И они медленно направились в сторону поля.
— Внимание! Внимание! Пограничники приглашаются в клуб на сцену! — прогремел несколько раз репродуктор.
Алесь заторопился:
— Не прощаюсь — увидимся. Как только кончится выступление, я сразу же выйду. Жди на скамеечке.
Уже густые сумерки скрывали постройки, когда Алесь подбежал к условленному месту. Народ, не торопясь, плыл из клуба, восторгаясь выступлением пограничников. Курене казалось, что этому шествию не будет конца. Наконец, окруженная подругами, вышла и Аксана.
Времени у Алеся было в обрез — уж такова, военная служба, где все подчинено расписанию,— и он, извинившись перед девушками, взял Аксану под руку и повел по тропке, подальше от людского шума и глаза.
— Когда же, Аксана, мы теперь встретимся? — остановился он у той самой липы, что днем укрывала их своей тенью.
— Если ничего подобного не случится, то только осенью, когда начнется учеба.
— Осенью? Так долго? — в голосе Алеся прозвучала печаль.— Может быть представится возможность вырваться в город, то дай весточку, и я на это время выхлопочу увольнительную.
— Хорошо, дам,— только и успела сказать Аксана: просигналила машина.
Алесь двумя ладонями взял ее голову и поцеловал в щеку.
— До свидания, Аксана!
Аксана провожала его до самой машины и там в толпе колхозников так же, как и они, махала рукой, не спуская глаз с Алеся.
Машина, набирая скорость, уже потонула в темноте ночи, а колхозники все еще не расходились, делясь своими впечатлениями о пограничниках. Только Аксана одиноко брела в сторону дома.
"Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе... и тем кто сделал к ней первой шаг..."
- pogranec
- Администратор
- Сообщения: 3389
- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38
- место службы: Республика Беларусь
- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с
- Контактная информация:
Re: Всегда на страже (очерки, рассказы, повести)
Глава третья
Последняя встреча с прапорщиком Кублашвили произвела на Алеся более сильное впечатление, чем все беседы в прошлом. И ему очень хотелось во всем быть похожим на него: и в службе, и в воинской выправке, и в постоянной подтянутости. И сейчас, отглаживая брюки к наряду, он вспоминал сказанное на выпуске начальником школы: «...Товарищи контролеры, помните, что вы первые встречаете едущих к нам иностранных гостей. И они по вашей внешности, культуре обращения и вежливости будут судить о достоинствах советского воина-пограничника как первого представителя великого социалистического государства. Но в это же время вы и пограничники — бдительные стражи у ворот нашей Отчизны. Так что будьте на высоте своего положения!..»
— Куреня, дымит! — окрикнул его Виктор Дудченко, вошедший в комнату быта.— Смотри, без штанов останешься.
Алесь не без испуга поднял утюг, сдернул тряпку и, глядя на штанину, вздохнул, будто гора с плеч.
— Ух, как напугал. Да это просто парит.
— Боже мой, а складочки-то! — И Виктор как бы выдернул из своей, словно смоль, головы волос и провел им по острию складки.— Берет,— хохотнул он.— Аж порезаться можно.— «Отлично» от старшины гарантировано. Но не канителься, пора собираться,— предупредил он и ушел.
— Неужели пора? — всполошился Алесь и стал усерднее работать утюгом. Минут через десять, застегивая галстук, он стоял перед большим зеркалом и смотрел на себя. Вроде бы все в порядке. И как сейчас ему хотелось в таком красивом виде предстать перед Аксаной и пригласить ее к танцу.
Но тут команда дежурного: «Наряд! На построение!» — оборвала его размышления, и он как младший контролер стал в строю во вторую шеренгу, сзади сержанта Крюкова.
Строем отправились на КПП. Вскоре предстояло произвести досмотр поезда Варшава — Москва. Старший лейтенант Смирнов назначил Крюкова и Куреню, а также Шпакова и Дудченко на досмотр в заграничные вагоны, а сам пошел в вагон, где находился начальник поезда.
Только Крюков и Куреня вошли в коридор вагона, как из первых трех купе высыпала молодежь. Их лица выражали нетерпеливую радость встречи с первыми советскими людьми. Кто-то из них звонко выкрикнул по-чешски: «Ать жие дружба!» и под многоголосое скандирование «Дружба! Дружба!» красивая девушка вручила Крюкову букет цветов и поцеловала.
Сержант Крюков за два года службы контролером изучил слова обращения, благодарности и доброго пожелания на польском, чешском, немецком, французском и итальянском языках. И сейчас он по-чешски отблагодарил:
— Сердечне декуи вам, пржители .— И положил букет на столик первого купе.— Прошу вас занять свои места и предъявить документы.— В переводе по-чешски ему помог старший группы этой молодежи.
— Младший сержант Куреня, приступите к досмотру,— распорядился Крюков.
После такой радушной, идущей от чистого сердца встречи, Алесю как-то неловко было проводить досмотр. Но приказ есть приказ! И он попросил пассажиров выйти в коридор и согласно инструкции досконально осмотрел все купе.
— У истинных друзей, товарищ сержант, все по-честному,— доложил Алесь Крюкову и занялся следующим купе. За ним следом шел таможенник. Его досмотр тоже прошел без происшествий.
Переходя в третье купе, Алесь чуть было не столкнулся со старшим лейтенантом Смирновым, спешившим в соседний вагон.
— Как досмотр? — бросил он Крюкову, стоявшему на пороге четвертого купе.
— Пока все благополучно,— доложил тот и проводил Смирнова до двери.
— Чего это он побежал? — полюбопытствовал Алесь.
— Что-то в соседнем вагоне нашли,— вполголоса поведал Крюков.— Смотри в оба! Из-за границы всякий народ едет,— и, бросив строгий взгляд на Куреню, вошел в следующее купе. Оттуда послышался женский голос:
— Бон суар, шер комарад! — и за ним мужской, как бы читавший по складам по-русски:
— Здравствуйте, товарищ!
Старший лейтенант Смирнов пришел в соседний вагон в самый кульминационный момент. В коридоре у входа в купе стояла уже немолодая пара: он в сером элегантном костюме, она в нарядном бежевом платье. Мадам, явно теряя самообладание, удрученно смотрела, как пограничник Дудченко, лежа на полу, вытаскивал из-под дивана одну за другой книги и передавал их контролеру Шпакову, а тот аккуратно складывал их на диван. На вопрос Смирнова, что происходит, Шпаков доложил:
— Священные книги, товарищ старший лейтенант.
— Много?
— Да вот двадцать вторую извлекаю,— вместо Шпакова, не вставая с пола, ответил Дудченко и снова запустил под диван руку.— Вот вам и двадцать третья,— протянул он книгу Шпакову.
— Как вы обнаружили? — поинтересовался Смирнов.
— Мы уже заканчивали досмотр, и казалось, что все в порядке,— докладывал Шпаков.— Напоследок я еще раз провел лучом фонарика под диваном и заметил, что там из-за спинки что-то чуточку выпирает. Дудченко пощупал и вытащил эту божественную книжицу. Смотрю — отпечатано по-русски. Читаю «Житие и сказание святых». Спрашиваю господина Джеферсона,— Шпаков покосил глазами на пассажира: «Такие еще есть?» — Он, отрицательно качая головой, отвечает что-то, как я понял, по-английски.— «Раз спрятал одну, то почему же не мог спрятать и другую?» — подумал я и говорю Дудченко: — Ложись-ка на пол и запусти руку поглубже, под спинку дивана! По физиономии миссис Джеферсон вижу, что ей это не по нутру. Дудченко лег на пол, запустил руку под диван и кричит, словно гол забили:
— Есть! Нащупал.— И вытянул одну, за ней — другую, а потом пошло, как по конвейеру.
Смирнов взял у Шпакова паспорта Джеферсонов и, глядя на самого мистера, спросил по-английски, чем удивил его и миссис:
— Кто же вы, мистер Джеферсон?
— Миссионер, господин офицер,— по-английски ответил Джеферсон.
— Миссионер? — Глаза Смирнова выразили удивление.— Читаете и говорите по-русски?
Миссис покраснела пуще прежнего, а мистер без зазрения совести ответил:
— Нет, не говорим и не читаем.
— Так зачем же вам так много «сказаний святых» на русском языке! — съязвил Смирнов, хотя прекрасно знал, для чего подобное чтиво завозится к нам, безбожникам, в Советский Союз.
— Выполняю миссию православной церкви.
— Таким путем? — улыбнулся старший лейтенант.— Контрабандно? Как-то не гармонирует это со священным писанием, мистер Джеферсон.
А Дудченко, бросая очередную книгу в руки Шпакова, прокричал:
— Тридцать первая,— и сел.
— Устал? — участливо спросил Смирнов.
— Есть немного. Очень неудобно, аж припотел.— Виктор вытер платком лицо и снова взялся за работу. И опять одна за другой полетели в руки Шпакова еще восемь книжиц, значительно толще, чем первые.— Ну,— кажется, все,— вздохнул Дудченко и, подавшись еще глубже под диван, последний раз для проверки провел по его заспинью рукой.— Стоп! Нащупал. Но, проклятая, уж очень далеко,— глядя большими глазами на Смирнова, он уперся пальцами в находку, раскачал ее там, и она грузно бухнулась на пол.
— Библия,— прочитал Виктор,— Что-то, товарищ старший леўтенант, эта книга тяжеловата,— Он протянул ему библию. Смирнов, взвешивая ее на руке, многозначительно промычал:
— М-да! — и колко взглянул на Джеферсона: — Это тоже божественное издание? — Мистер Джеферсон молчал. Лицо его покрылось красными пятнами, а уши — так прямо горели. Когда Смирнов стал листать библию, Джеферсон словно от боли прикрыл глаза и даже ухватился за жену, которая, испугавшись последней находки, потянула свои пальчики к губам, да так и застыла, глядя безумным взором на советского офицера, вытаскивавшего пистолет, утопленный в вырезанных на всю глубину страницах библии.
— Крест и маузер! — невольно вырвалось у Смирнова название давно прошедшей кинокартины.
— Нет, не маузер, господин офицер, а пистолет,— потеряв самообладание, испуганно пролепетал Джеферсон, как будто это смягчало степень этого злостного нарушения советского закона.— Простите, я очень волнуюсь.
«Да, мистер Джеферсон, есть от чего волноваться»,— мысленно бросил ему Смирнов.
Он прошел к столу, разрядил пистолет и спросил:
— Патроны еще есть?
Джеферсон безмолвно снял с наддиванной сетчатой полочки несессер и из него высыпал на стол пять пачек сигарет.
Первую попавшуюся в руки пачку Смирнов вскрыл и вместо сигарет из нее посыпались патроны.
— Что же с нами будет, господин офицер? Арестуют? — упавшим голосом по-английски спросила миссис Джеферсон.
— Сейчас, миссис, ничего не могу сказать. Это решат компетентные органы.
— Почему органы, а не вы? Что тут такого? Пистолет? — как ни в чем не бывало удивился Джеферсон. — Так я вез его сыну.
— Зачем?
— Как зачем? Для самообороны. У нас, например, всякий, кто хочет сохранить карман и жизнь, носит при себе пистолет.
— Это у вас, мистер. А у нас этого совсем не надо,— ответил Смирнов и, сев за столик, стал писать акт.
В это же время контролер Крюков в своем вагоне зашел в шестое купе. Его приветливым взором из-под пушистых черных ресниц встретила, не поднимаясь с дивана, милая, смуглая иностранка с обнаженными коленями. В купе она ехала одна.
— Здравствуйте! — козырнул Крюков.— Пограничный контроль. Прошу предъявить паспорт.
— Паспорт? Ту де сюит ,— игриво сверкнула карими глазами пассажирка и, вынув из лакированной сумочки паспорт, протянула его контролеру.— Силь ву пле .— И тут же спросила, показывая на чемоданы, лежавшие на верхней полке: — А, у фера-т-он ля визит дуаньер?
Что касается слова «дуаньер»,— Крюков знал, а вот что значат остальные, он догадывался только по ее указке ка чемоданы.
— Дуверьер будет здесь,— Крюков постучал пальцем по столу.— А сейчас, гражданка Понсемэ,— покосился он на вошедшего пограничника,— произведем досмотр купе. Прошу вас выйти в коридор.
Мадемуазель Понсемэ одернула мини-юбку и отошла к двери.
— Товарищ Куреня, приступайте,— распорядился он, а сам пошел в следующее купе.
Тут Понсемэ, поглядывая на проводника, который стоял у соседнего купе, переступила порог, вынула из сумочки пачку сигарет и, играя чарующим взором, спросила Куреню:
— Ву парле франсе?
— Нет, не парле,— ответил Алесь и, намереваясь осмотреть постель верхнего дивана, было натужился, чтобы снять с него чемодан. Но, к его удивлению, чемодан оказался не столь тяжелым, каким обыкновенно бывают чемоданы едущих из-за границы.
На ответ Курени Понсемэ кокетливо пробормотала:
— Кель домаж ,— манерно вскрыла пачку, щелчком по дну выбила из нее наполовину сигарету и, протянув пачку пограничнику, вычитала из разговорника:
— Курьити. Сигареты прик-крас-ние.
— Мерси,— поблагодарил Алесь и деликатно отстранил руку иностранки.— Не курю.— Затем двумя руками взялся за второй чемодан и, не ворочая его, положил на нижнюю постель. Тут же вошел таможенник и открыл чемодан, просмотрел вещи. В них все было нормально — белье, платья, костюм и ничего подозрительного. Но он и пограничник обратили внимание на то, что вещи за столь длинное путешествие в неплотно загруженном чемодане совсем не помялись и лежали, как будто бы только что положены. Таможенник раскрыл второй чемодан, поставленный Куреней на пол ручкой кверху. Чемодан наполовину был пуст, и, естественно, все содержимое сдвинулось книзу, но и в нем чувствовалось, что был такой же порядок. Здесь их удивило то, что в этом чемодане лежал большой дорожный мешок и ремни с ручкой. «Что бы это значило?» — подумал Алесь и по привычке потянул было руку к подбородку, но, вспомнив указание обучающего капитана отвыкать от этого, одернул полу мундира и взялся за досмотр верхней постели.
Не обнаружив в личных вещах и чемоданах ничего запрещенного законом, таможенник ушел, но Куреня, находясь под впечатлением большого мешка и ремней в чемодане, решил еще раз досмотреть под постелями. И, как бы проявляя учтивость — «Раз разворотил, то сам и застели!»,— взялся за простыню. Но тут к нему шагнула мадемуазель Понсемэ, и, мило улыбаясь, сама принялась убирать постель. Тем временем Куреня взялся за досмотр нижнего дивана. Здесь также было безупречно. Единственное, на что он обратил внимание, так это на то, что здесь постель была застелена не одеялом, а пледом. И еще, как ему показалось, этот матрац — а он был такой же, как и все матрацы в вагоне — тоньше, чем верхний.
«В чем дело?» — размышлял он.— «Но что бы здесь не было, треба разобраться!» — И для сравнения матрацев Алесь вернулся к верхнему дивану. Прошелся там ладонью по обеим сторонам матраца — гладко. Правда, кое-где под желтоватым чехлом чуть-чуть ощущались складочки, но это не вызывало особого подозрения. А вот торцевой шов, как показалось Алесю, был зашит на скорую руку. Водя по нему ладонью, Алесь глядел на пассажирку, но ее улыбчивое лицо ничего не говорило. Зато, когда он двинулся к двери, чтобы еще раз пригласить таможенника, мадемуазель Понсемэ заслонила собою выход и, сменив кокетливый взор на грустный, стала рыться в сумочке.
— Гражданка Понсемэ, прошу вас! — Алесь сдержанно, но властно предложил ей отойти от двери.
Крюков, услышав столь необычный тон напарника, поспешил к нему.
— Что тут у вас происходит?
— Этот матрац, товарищ сержант, что-то не такой, как все,— Куреня опустил руку на верхний диван.
— Да! — многозначительно протянул Крюков и послал Алеся пригласить сюда таможенника и старшего лейтенанта. Таможенник тут же явился, а следом за ним и Смирнов с Людмилой Васильевной — сотрудницей таможни, которая говорила по-французски и помогла бы ему объясниться с иностранкой.
Таможенник ножом распорол сшивку торца, запустил в матрац руку и вытащил оттуда все, что захватил в пятерню,
— Это, товарищи, шерстяные, тонкой вязки платки,— и он по одному платку протянул Смирному и Людмиле Васильевне.
— Это ваши вещи? — показывая на верхний матрац, Смирнов, с помощью Людмилы Васильевны, спросил Понсемэ.
— Нет, не мои,— уже приняв нормальный вид, ответила она.
— А как они сюда попали?
— Не знаю.
Тогда старший лейтенант Смирнов приказал контролерам застелить все так, как было до досмотра. А после пригласил в купе проводника. Это был почтенный, в годах чех.
— Товарищ проводник,— обратился к нему Смирнов по-русски,— вот две постели. Они обе ваши?
— Здесь, пане офицер,— проводник показал на нижний диван,— я ложил едно ложни прадло, простите, пастэл. Друга пастэл не клал. И та верхни пастэл и матрацэ есть в мой купе. Принест?
— Нет, не надо,— Смирнов остановил его,— Будьте добры, отберите свое и положите пока на пол.
Проводник проворно положил верхнее постельное белье на нижний матрац, свернул матрац рулоном и спустил его на пол около двери.
— А она говорит, цо тото полудницве мойе? — проводник, бросая подушки с контрабандой на голый верхний диван, гневно смотрел на пассажирку.— Тета, пани, шпатность! —■ и, укоризненно качая головой, перевел взгляд на старшего лейтенанта, мучительно подбирая слова.— Очень плёхо, пане офицер, очень плёхо! Таковы человек може очен плёхо делат.
— Правильно, товарищ. Такие люди,— Смирнов укоризненно смотрел на иностранку,— ради наживы пойдут на все.— Затем он обратился к Людмиле Васильевне: — Скажите мадемуазель, что я последний раз спрашиваю: это ее вещи?
— Нет, не мои,— в прежнем тоне ответила Понсемэ.
— Тогда, зачем вы преградили пограничнику выход из купе?
— Я? — Понсемэ сделала большие глаза.— Не выпускала пограничника? Это, господин офицер, ложь,
Услышав перевод, Алесь вскипел:
— Ложь? Да?..
Но тут его оборвал старший лейтенант:
— Тихо, младший сержант! А вы,— Смирнов обратился к таможеннику,— вытаскивайте контрабанду из матраца.— Затем он поставил около столика чемодан на попа, положил на него в несколько раз сложенный плед и предложил иностранке на него сесть.
— В матраце сто платков,— доложил таможенник.
— В подушках шестьдесят,— добавила Людмила Васильевна.
— Хорошо. Запишем сто шестьдесят. Весомо! — и, зайдя за столик, старший лейтенант Смирнов опустился на диван,— Мари Понсемэ, вы француженка? — читая паспорт, спросил он.
— Да, француженка,— горделиво ответила она, видимо, рассчитывая на добрые отношения нашей страны с Францией.
— А почему визу брали в Бонне?
— А я живу в Сааре.
— Ваше подданство?
Понсемэ замялась и, немного подумав, заговорила откровенней:
— Да я и сама не знаю. Мать — француженка, отец — баварец. Отца не помню — погиб в последнюю войну. Мама умерла три года назад. Осталась старенькая бабушка по отцу. Она живет в Маркредвице. Я работаю в Саарбрюкене экономистом. Ехала посмотреть вашу страну... И к своему несчастью,— печальный вздох вырвался из ее груди,— соблазнилась и взяла эти несчастные платки.
— А к кому ехали?
Понсемэ ответила не сразу:
— Мне не хочется подводить этих добрых советских людей. Поэтому я вам об этих людях ничего не скажу.
На этом старший лейтенант разговор с Понсемэ закончил. Людмила Васильевна перевела ей содержание акта, и Понсемэ безропотно его подписала.
— А теперь, Людмила Васильевна, забирайте к себе мадемуазель и вещи, пограничник вам поможет.
Выйдя в коридор, старший лейтенант пожурил Алеся:
— При досмотре, товарищ Куреня, больше выдержки, хладнокровия и не болтать.
— Да как же быть хладнокровным, когда мне, советскому человеку-пограничнику контрабандистка в глаза говорит «ложь». Это оскорбление.
— Я прекрасно вас понимаю, но, дорогой пограничник, этого делать нельзя!
— А если она стала у двери, распластала по ней руки и не пускает меня. Что делать? Умолять?
— Сержант Крюков в соседнем купе. Обычный наш стук в стенку, и он тут. Ясно? — Смирнов добродушно положил руку на плечо Алеся.
Тот ответил:
— Ясно, товарищ старший лейтенант.
— А раз ясно, то продолжайте досмотр следующего купе.
— Есть продолжать.
— А вы, сержант, — обратился он к Крюкову,— идите в служебное купе, я помогу вам проверить документы. А то,— поглядел он на часы,— скоро Брест.
Глава четвертая
До июня младший сержант Куреня прослужил в качестве младшего контролера по пассажирским заграничным поездам. За это время, в паре с контролером сержантом Крюковым, было немало раскрыто случаев провоза иностранцами контрабанды, порнографии, запрещенных и даже явно враждебных печатных материалов.
Вот и недавно. Из-за границы прибыл скорый поезд. В мягком вагоне было полно пассажиров, все ехали вторым классом, лишь в третьем купе размещался в единственном числе элегантно одетый молодой, с баками, брюнет, в больших круглых очках на выдающемся римском носу.
— Господин Фридман, снимите, пожалуйста, очки,— попросил Крюков, так как на паспорте фотография его владельца была без очков.— Откуда следуете? — запустил он «чижика», стараясь сразу узнать, на каком языке говорит пассажир.
— Нихт ферштейн ,— покачал головой Фридман.
— Вы немец? — И, видя удивленное выражение, Крюков повторил по-немецки,— Ир ист дойч?
— О! Их бин дойч ,— поспешил с ответом Фридман.
Дальше запаса немецких слов у Крюкова не хватило и он спросил по-русски:
— Если дойч, так почему же паспорт визирован в Брюсселе?
Немец молчаливо смотрел на Крюкова, стремясь понять вопрос. И наконец, как бы вспомнив, выставил палец:
— А, виз? Брюссэл? Айн момент,— и извлек из кармана пиджака разговорник туриста и в нем показал на строчку: «Я турист»,— потом на другую: «Я приехал из Бельгии».
«Интересно,— подумал Крюков,— говор немецкий, паспорт бельгийский, внешность римско-израильская, а едет черт знает откуда».— И он распорядился:
— Младший сержант Куреня, приступайте к досмотру! — и, уходя в соседнее купе, незаметно для пассажира, подмигнул ему: — «Смотри в оба!»
— Господин Фридман, прошу вас выйти.— Куреня показал на дверь. Пассажир покорно вышел в коридор и, повернувшись спиной к окну, наблюдал, как пограничник досматривает помещение.
Вещей у Фридмана было немного: два чемодана — большой и малый, на крючке висели пальто, шляпа и несессер, да на полочке над диваном старенький транзистор. Вот и все!
Пожелав пассажиру доброго пути, Алесь пошел в соседнее купе, но на полпути остановился! транзистор не выходил из памяти, а в ушах звучало: «Смотри в оба!» И он тут же вспомнил, как в прошлом году контролер Коротченко и его помощник Коля Дейман из подобного приемника извлекли четыре тысячи рублей советских денег. Алесь возвратился в купе и спросил пассажира, показывая на транзистор.
— Работает?
Фридман как бы непонимающе скривил голову. Куреня повторил по-немецки: — Арбайтен?
— Не работает. Падал,— Фридман заученно ответил по-русски, показывая на пол,— и капут.— Оттянув губы, он горестно покачал головой.
— Говорите упал? — промолвил Алесь, и транзистор приложил к уху: в приемнике — ни шороха, ни писка.— Да! — поставил приемник на стол, двинулся к двери, чтобы пригласить сержанта Крюкова. Фридман догадался, в чем дело, и Куреню остановил. Затем выдернул из нагрудного кармана пиджака зеленый карандаш, мгновенно снял с него колпачок, из которого торчали завернутые в трубочку деньги, и протянул карандаш Курене.
Алесь тут же вызвал Крюкова.
Фридман не успел даже спрятать свой «подарок», как тот появился в дверях.
— Товарищ сержант,— волнуясь, докладывал Куреня, показывая на приемник,— этот транзистор не работает,— что на языке пограничника означало: «вызывает подозрение». Алесь стрельнул глазами в сторону большого чемодана и согнутыми пальцами постучал по своей ладони.— А в карандаше, что держит пассажир, деньги, и он их мне совал.
— Пассажир Фридман, предъявите карандаш! — приказал Крюков. Но тот стоял не шевелясь. Крюков повторил, да так грозно, что Фридман даже вздрогнул и покорно положил карандаш на стол. В колпачке оказалась наша пятидесятирублевка. Засунув деньги обратно в колпачок, Крюков приказал Курене позвать капитана Яскевича и таможенника, еще проводившего досмотр в первом купе.
Капитан Яскевич прибыл с двумя пограничниками, а следом за ним пришел и таможенник.
— Докладывайте, что обнаружено,— обратился капитан к Крюкову. Но тот поручил отвечать своему помощнику.
— Во-первых, товарищ капитан, обратите внимание на этот старенький радиоприемник. Он не работает. Во-вторых,— Куреня взором показал на большой, что на полке, чемодан и согнутым пальцем коснулся ладони, как бы говоря, что «дно чемодана странно звучит». Кивком головы капитан безмолвно ответил Курене: «Понял», и тут же в этом убедился сам.
— В-третьих, товарищ капитан, этот господин предложил младшему сержанту взятку,— доложил Крюков.— Она вот здесь,— снял он колпачок, и карандаш и паспорт Фридмана протянул капитану.
— Спасибо, товарищи пограничники. А вы, Моня Фридман, берите вещи и идемте со мной.
В досмотровом зале сотрудник таможни в присутствии Фридмана занялся большим его чемоданом, а другой таможенник — годами постарше — взялся за транзистор. На первый взгляд внутри приемника было все в порядке.
— Видимо, господин, ваши батареи тово, сели.— И он привычным движением их вынул, осмотрел, взвесил каждую на ладони, потом две перебросил на другую ладонь, так как ему показалось, что эти две, как бы легче одной той, что осталась на левой ладони. И, многозначительно чмокнув губами, обратился к Яскевичу:
— Что-то эти две, товарищ капитан, легковаты,— покачал таможенник две батарейки, что были в правой руке.
Капитан Яскевич для убедительности сам взвесил батарейки на своих ладонях и промычал:
— М-да! Ясно, что дело темное,— и передал их таможеннику.— Вскрывайте!
Фридман, сгорбившись, сидел у стола, а когда острие отвертки коснулось заливки, он еще больше согнулся, не зная куда деть лицо. И вот звучно захрустел в батарейке верхний слой заливки, отчего Моня даже болезненно ахнул: под заливкой оказались, обвернутые вокруг электрода, двадцать советских сторублевок. То же самое было и во второй.
Капитан обдал псевдонемца колючим взглядом:
— Четыре тысячи рублей. Богато! — А теперь, Моня Фридман, прошу вас сюда к вашему чемодану.
Моня еле-еле поднялся и подошел к столу досмотра, на котором лежали его вещи, вынутые из чемодана.
— Поскольку второе дно заделано наглухо,— я в вашем присутствии вскрываю его ножом,— сказал по-русски таможенник,— или здесь все же есть какая-нибудь хитрость, чтобы не портя дна, вскрыть?
— Нет никакой хитрости,— тоже по-русски, с акцентом, ответил Моня и болезненно сморщился от писка ножа, прорезавшего картон второго дна.
— Это понятно: сионистские листовки, письма евреям России,— капитан Яскевич клал все это стопкой рядом с чемоданом.— А вот с книгами трудновато разобраться, они напечатаны на разных языках. Хотя вот данная книга мне понятна — это книга Троцкого. Стоп. Да тут есть книжечки и на русском языке,— и Яскевич листанул несколько страниц такой книжечки.— Хлестко написано. Сквозь красивые слова — словно из-за роз — выпирает свиное рыло антисоветчины... Большой же у вас, Моня, ассортимент сионистского и антисоветского товара. Так кто же вы, Фридман, на самом деле?
При наличии таких веских улик, при последующих беседах Фридману ничего не оставалось делать, как признаться, что он сотрудник антисоветской организации МАОЗ...
Вскоре Алесь узнал, что за эту «находку» при досмотре его повысили в звании.
Последняя встреча с прапорщиком Кублашвили произвела на Алеся более сильное впечатление, чем все беседы в прошлом. И ему очень хотелось во всем быть похожим на него: и в службе, и в воинской выправке, и в постоянной подтянутости. И сейчас, отглаживая брюки к наряду, он вспоминал сказанное на выпуске начальником школы: «...Товарищи контролеры, помните, что вы первые встречаете едущих к нам иностранных гостей. И они по вашей внешности, культуре обращения и вежливости будут судить о достоинствах советского воина-пограничника как первого представителя великого социалистического государства. Но в это же время вы и пограничники — бдительные стражи у ворот нашей Отчизны. Так что будьте на высоте своего положения!..»
— Куреня, дымит! — окрикнул его Виктор Дудченко, вошедший в комнату быта.— Смотри, без штанов останешься.
Алесь не без испуга поднял утюг, сдернул тряпку и, глядя на штанину, вздохнул, будто гора с плеч.
— Ух, как напугал. Да это просто парит.
— Боже мой, а складочки-то! — И Виктор как бы выдернул из своей, словно смоль, головы волос и провел им по острию складки.— Берет,— хохотнул он.— Аж порезаться можно.— «Отлично» от старшины гарантировано. Но не канителься, пора собираться,— предупредил он и ушел.
— Неужели пора? — всполошился Алесь и стал усерднее работать утюгом. Минут через десять, застегивая галстук, он стоял перед большим зеркалом и смотрел на себя. Вроде бы все в порядке. И как сейчас ему хотелось в таком красивом виде предстать перед Аксаной и пригласить ее к танцу.
Но тут команда дежурного: «Наряд! На построение!» — оборвала его размышления, и он как младший контролер стал в строю во вторую шеренгу, сзади сержанта Крюкова.
Строем отправились на КПП. Вскоре предстояло произвести досмотр поезда Варшава — Москва. Старший лейтенант Смирнов назначил Крюкова и Куреню, а также Шпакова и Дудченко на досмотр в заграничные вагоны, а сам пошел в вагон, где находился начальник поезда.
Только Крюков и Куреня вошли в коридор вагона, как из первых трех купе высыпала молодежь. Их лица выражали нетерпеливую радость встречи с первыми советскими людьми. Кто-то из них звонко выкрикнул по-чешски: «Ать жие дружба!» и под многоголосое скандирование «Дружба! Дружба!» красивая девушка вручила Крюкову букет цветов и поцеловала.
Сержант Крюков за два года службы контролером изучил слова обращения, благодарности и доброго пожелания на польском, чешском, немецком, французском и итальянском языках. И сейчас он по-чешски отблагодарил:
— Сердечне декуи вам, пржители .— И положил букет на столик первого купе.— Прошу вас занять свои места и предъявить документы.— В переводе по-чешски ему помог старший группы этой молодежи.
— Младший сержант Куреня, приступите к досмотру,— распорядился Крюков.
После такой радушной, идущей от чистого сердца встречи, Алесю как-то неловко было проводить досмотр. Но приказ есть приказ! И он попросил пассажиров выйти в коридор и согласно инструкции досконально осмотрел все купе.
— У истинных друзей, товарищ сержант, все по-честному,— доложил Алесь Крюкову и занялся следующим купе. За ним следом шел таможенник. Его досмотр тоже прошел без происшествий.
Переходя в третье купе, Алесь чуть было не столкнулся со старшим лейтенантом Смирновым, спешившим в соседний вагон.
— Как досмотр? — бросил он Крюкову, стоявшему на пороге четвертого купе.
— Пока все благополучно,— доложил тот и проводил Смирнова до двери.
— Чего это он побежал? — полюбопытствовал Алесь.
— Что-то в соседнем вагоне нашли,— вполголоса поведал Крюков.— Смотри в оба! Из-за границы всякий народ едет,— и, бросив строгий взгляд на Куреню, вошел в следующее купе. Оттуда послышался женский голос:
— Бон суар, шер комарад! — и за ним мужской, как бы читавший по складам по-русски:
— Здравствуйте, товарищ!
Старший лейтенант Смирнов пришел в соседний вагон в самый кульминационный момент. В коридоре у входа в купе стояла уже немолодая пара: он в сером элегантном костюме, она в нарядном бежевом платье. Мадам, явно теряя самообладание, удрученно смотрела, как пограничник Дудченко, лежа на полу, вытаскивал из-под дивана одну за другой книги и передавал их контролеру Шпакову, а тот аккуратно складывал их на диван. На вопрос Смирнова, что происходит, Шпаков доложил:
— Священные книги, товарищ старший лейтенант.
— Много?
— Да вот двадцать вторую извлекаю,— вместо Шпакова, не вставая с пола, ответил Дудченко и снова запустил под диван руку.— Вот вам и двадцать третья,— протянул он книгу Шпакову.
— Как вы обнаружили? — поинтересовался Смирнов.
— Мы уже заканчивали досмотр, и казалось, что все в порядке,— докладывал Шпаков.— Напоследок я еще раз провел лучом фонарика под диваном и заметил, что там из-за спинки что-то чуточку выпирает. Дудченко пощупал и вытащил эту божественную книжицу. Смотрю — отпечатано по-русски. Читаю «Житие и сказание святых». Спрашиваю господина Джеферсона,— Шпаков покосил глазами на пассажира: «Такие еще есть?» — Он, отрицательно качая головой, отвечает что-то, как я понял, по-английски.— «Раз спрятал одну, то почему же не мог спрятать и другую?» — подумал я и говорю Дудченко: — Ложись-ка на пол и запусти руку поглубже, под спинку дивана! По физиономии миссис Джеферсон вижу, что ей это не по нутру. Дудченко лег на пол, запустил руку под диван и кричит, словно гол забили:
— Есть! Нащупал.— И вытянул одну, за ней — другую, а потом пошло, как по конвейеру.
Смирнов взял у Шпакова паспорта Джеферсонов и, глядя на самого мистера, спросил по-английски, чем удивил его и миссис:
— Кто же вы, мистер Джеферсон?
— Миссионер, господин офицер,— по-английски ответил Джеферсон.
— Миссионер? — Глаза Смирнова выразили удивление.— Читаете и говорите по-русски?
Миссис покраснела пуще прежнего, а мистер без зазрения совести ответил:
— Нет, не говорим и не читаем.
— Так зачем же вам так много «сказаний святых» на русском языке! — съязвил Смирнов, хотя прекрасно знал, для чего подобное чтиво завозится к нам, безбожникам, в Советский Союз.
— Выполняю миссию православной церкви.
— Таким путем? — улыбнулся старший лейтенант.— Контрабандно? Как-то не гармонирует это со священным писанием, мистер Джеферсон.
А Дудченко, бросая очередную книгу в руки Шпакова, прокричал:
— Тридцать первая,— и сел.
— Устал? — участливо спросил Смирнов.
— Есть немного. Очень неудобно, аж припотел.— Виктор вытер платком лицо и снова взялся за работу. И опять одна за другой полетели в руки Шпакова еще восемь книжиц, значительно толще, чем первые.— Ну,— кажется, все,— вздохнул Дудченко и, подавшись еще глубже под диван, последний раз для проверки провел по его заспинью рукой.— Стоп! Нащупал. Но, проклятая, уж очень далеко,— глядя большими глазами на Смирнова, он уперся пальцами в находку, раскачал ее там, и она грузно бухнулась на пол.
— Библия,— прочитал Виктор,— Что-то, товарищ старший леўтенант, эта книга тяжеловата,— Он протянул ему библию. Смирнов, взвешивая ее на руке, многозначительно промычал:
— М-да! — и колко взглянул на Джеферсона: — Это тоже божественное издание? — Мистер Джеферсон молчал. Лицо его покрылось красными пятнами, а уши — так прямо горели. Когда Смирнов стал листать библию, Джеферсон словно от боли прикрыл глаза и даже ухватился за жену, которая, испугавшись последней находки, потянула свои пальчики к губам, да так и застыла, глядя безумным взором на советского офицера, вытаскивавшего пистолет, утопленный в вырезанных на всю глубину страницах библии.
— Крест и маузер! — невольно вырвалось у Смирнова название давно прошедшей кинокартины.
— Нет, не маузер, господин офицер, а пистолет,— потеряв самообладание, испуганно пролепетал Джеферсон, как будто это смягчало степень этого злостного нарушения советского закона.— Простите, я очень волнуюсь.
«Да, мистер Джеферсон, есть от чего волноваться»,— мысленно бросил ему Смирнов.
Он прошел к столу, разрядил пистолет и спросил:
— Патроны еще есть?
Джеферсон безмолвно снял с наддиванной сетчатой полочки несессер и из него высыпал на стол пять пачек сигарет.
Первую попавшуюся в руки пачку Смирнов вскрыл и вместо сигарет из нее посыпались патроны.
— Что же с нами будет, господин офицер? Арестуют? — упавшим голосом по-английски спросила миссис Джеферсон.
— Сейчас, миссис, ничего не могу сказать. Это решат компетентные органы.
— Почему органы, а не вы? Что тут такого? Пистолет? — как ни в чем не бывало удивился Джеферсон. — Так я вез его сыну.
— Зачем?
— Как зачем? Для самообороны. У нас, например, всякий, кто хочет сохранить карман и жизнь, носит при себе пистолет.
— Это у вас, мистер. А у нас этого совсем не надо,— ответил Смирнов и, сев за столик, стал писать акт.
В это же время контролер Крюков в своем вагоне зашел в шестое купе. Его приветливым взором из-под пушистых черных ресниц встретила, не поднимаясь с дивана, милая, смуглая иностранка с обнаженными коленями. В купе она ехала одна.
— Здравствуйте! — козырнул Крюков.— Пограничный контроль. Прошу предъявить паспорт.
— Паспорт? Ту де сюит ,— игриво сверкнула карими глазами пассажирка и, вынув из лакированной сумочки паспорт, протянула его контролеру.— Силь ву пле .— И тут же спросила, показывая на чемоданы, лежавшие на верхней полке: — А, у фера-т-он ля визит дуаньер?
Что касается слова «дуаньер»,— Крюков знал, а вот что значат остальные, он догадывался только по ее указке ка чемоданы.
— Дуверьер будет здесь,— Крюков постучал пальцем по столу.— А сейчас, гражданка Понсемэ,— покосился он на вошедшего пограничника,— произведем досмотр купе. Прошу вас выйти в коридор.
Мадемуазель Понсемэ одернула мини-юбку и отошла к двери.
— Товарищ Куреня, приступайте,— распорядился он, а сам пошел в следующее купе.
Тут Понсемэ, поглядывая на проводника, который стоял у соседнего купе, переступила порог, вынула из сумочки пачку сигарет и, играя чарующим взором, спросила Куреню:
— Ву парле франсе?
— Нет, не парле,— ответил Алесь и, намереваясь осмотреть постель верхнего дивана, было натужился, чтобы снять с него чемодан. Но, к его удивлению, чемодан оказался не столь тяжелым, каким обыкновенно бывают чемоданы едущих из-за границы.
На ответ Курени Понсемэ кокетливо пробормотала:
— Кель домаж ,— манерно вскрыла пачку, щелчком по дну выбила из нее наполовину сигарету и, протянув пачку пограничнику, вычитала из разговорника:
— Курьити. Сигареты прик-крас-ние.
— Мерси,— поблагодарил Алесь и деликатно отстранил руку иностранки.— Не курю.— Затем двумя руками взялся за второй чемодан и, не ворочая его, положил на нижнюю постель. Тут же вошел таможенник и открыл чемодан, просмотрел вещи. В них все было нормально — белье, платья, костюм и ничего подозрительного. Но он и пограничник обратили внимание на то, что вещи за столь длинное путешествие в неплотно загруженном чемодане совсем не помялись и лежали, как будто бы только что положены. Таможенник раскрыл второй чемодан, поставленный Куреней на пол ручкой кверху. Чемодан наполовину был пуст, и, естественно, все содержимое сдвинулось книзу, но и в нем чувствовалось, что был такой же порядок. Здесь их удивило то, что в этом чемодане лежал большой дорожный мешок и ремни с ручкой. «Что бы это значило?» — подумал Алесь и по привычке потянул было руку к подбородку, но, вспомнив указание обучающего капитана отвыкать от этого, одернул полу мундира и взялся за досмотр верхней постели.
Не обнаружив в личных вещах и чемоданах ничего запрещенного законом, таможенник ушел, но Куреня, находясь под впечатлением большого мешка и ремней в чемодане, решил еще раз досмотреть под постелями. И, как бы проявляя учтивость — «Раз разворотил, то сам и застели!»,— взялся за простыню. Но тут к нему шагнула мадемуазель Понсемэ, и, мило улыбаясь, сама принялась убирать постель. Тем временем Куреня взялся за досмотр нижнего дивана. Здесь также было безупречно. Единственное, на что он обратил внимание, так это на то, что здесь постель была застелена не одеялом, а пледом. И еще, как ему показалось, этот матрац — а он был такой же, как и все матрацы в вагоне — тоньше, чем верхний.
«В чем дело?» — размышлял он.— «Но что бы здесь не было, треба разобраться!» — И для сравнения матрацев Алесь вернулся к верхнему дивану. Прошелся там ладонью по обеим сторонам матраца — гладко. Правда, кое-где под желтоватым чехлом чуть-чуть ощущались складочки, но это не вызывало особого подозрения. А вот торцевой шов, как показалось Алесю, был зашит на скорую руку. Водя по нему ладонью, Алесь глядел на пассажирку, но ее улыбчивое лицо ничего не говорило. Зато, когда он двинулся к двери, чтобы еще раз пригласить таможенника, мадемуазель Понсемэ заслонила собою выход и, сменив кокетливый взор на грустный, стала рыться в сумочке.
— Гражданка Понсемэ, прошу вас! — Алесь сдержанно, но властно предложил ей отойти от двери.
Крюков, услышав столь необычный тон напарника, поспешил к нему.
— Что тут у вас происходит?
— Этот матрац, товарищ сержант, что-то не такой, как все,— Куреня опустил руку на верхний диван.
— Да! — многозначительно протянул Крюков и послал Алеся пригласить сюда таможенника и старшего лейтенанта. Таможенник тут же явился, а следом за ним и Смирнов с Людмилой Васильевной — сотрудницей таможни, которая говорила по-французски и помогла бы ему объясниться с иностранкой.
Таможенник ножом распорол сшивку торца, запустил в матрац руку и вытащил оттуда все, что захватил в пятерню,
— Это, товарищи, шерстяные, тонкой вязки платки,— и он по одному платку протянул Смирному и Людмиле Васильевне.
— Это ваши вещи? — показывая на верхний матрац, Смирнов, с помощью Людмилы Васильевны, спросил Понсемэ.
— Нет, не мои,— уже приняв нормальный вид, ответила она.
— А как они сюда попали?
— Не знаю.
Тогда старший лейтенант Смирнов приказал контролерам застелить все так, как было до досмотра. А после пригласил в купе проводника. Это был почтенный, в годах чех.
— Товарищ проводник,— обратился к нему Смирнов по-русски,— вот две постели. Они обе ваши?
— Здесь, пане офицер,— проводник показал на нижний диван,— я ложил едно ложни прадло, простите, пастэл. Друга пастэл не клал. И та верхни пастэл и матрацэ есть в мой купе. Принест?
— Нет, не надо,— Смирнов остановил его,— Будьте добры, отберите свое и положите пока на пол.
Проводник проворно положил верхнее постельное белье на нижний матрац, свернул матрац рулоном и спустил его на пол около двери.
— А она говорит, цо тото полудницве мойе? — проводник, бросая подушки с контрабандой на голый верхний диван, гневно смотрел на пассажирку.— Тета, пани, шпатность! —■ и, укоризненно качая головой, перевел взгляд на старшего лейтенанта, мучительно подбирая слова.— Очень плёхо, пане офицер, очень плёхо! Таковы человек може очен плёхо делат.
— Правильно, товарищ. Такие люди,— Смирнов укоризненно смотрел на иностранку,— ради наживы пойдут на все.— Затем он обратился к Людмиле Васильевне: — Скажите мадемуазель, что я последний раз спрашиваю: это ее вещи?
— Нет, не мои,— в прежнем тоне ответила Понсемэ.
— Тогда, зачем вы преградили пограничнику выход из купе?
— Я? — Понсемэ сделала большие глаза.— Не выпускала пограничника? Это, господин офицер, ложь,
Услышав перевод, Алесь вскипел:
— Ложь? Да?..
Но тут его оборвал старший лейтенант:
— Тихо, младший сержант! А вы,— Смирнов обратился к таможеннику,— вытаскивайте контрабанду из матраца.— Затем он поставил около столика чемодан на попа, положил на него в несколько раз сложенный плед и предложил иностранке на него сесть.
— В матраце сто платков,— доложил таможенник.
— В подушках шестьдесят,— добавила Людмила Васильевна.
— Хорошо. Запишем сто шестьдесят. Весомо! — и, зайдя за столик, старший лейтенант Смирнов опустился на диван,— Мари Понсемэ, вы француженка? — читая паспорт, спросил он.
— Да, француженка,— горделиво ответила она, видимо, рассчитывая на добрые отношения нашей страны с Францией.
— А почему визу брали в Бонне?
— А я живу в Сааре.
— Ваше подданство?
Понсемэ замялась и, немного подумав, заговорила откровенней:
— Да я и сама не знаю. Мать — француженка, отец — баварец. Отца не помню — погиб в последнюю войну. Мама умерла три года назад. Осталась старенькая бабушка по отцу. Она живет в Маркредвице. Я работаю в Саарбрюкене экономистом. Ехала посмотреть вашу страну... И к своему несчастью,— печальный вздох вырвался из ее груди,— соблазнилась и взяла эти несчастные платки.
— А к кому ехали?
Понсемэ ответила не сразу:
— Мне не хочется подводить этих добрых советских людей. Поэтому я вам об этих людях ничего не скажу.
На этом старший лейтенант разговор с Понсемэ закончил. Людмила Васильевна перевела ей содержание акта, и Понсемэ безропотно его подписала.
— А теперь, Людмила Васильевна, забирайте к себе мадемуазель и вещи, пограничник вам поможет.
Выйдя в коридор, старший лейтенант пожурил Алеся:
— При досмотре, товарищ Куреня, больше выдержки, хладнокровия и не болтать.
— Да как же быть хладнокровным, когда мне, советскому человеку-пограничнику контрабандистка в глаза говорит «ложь». Это оскорбление.
— Я прекрасно вас понимаю, но, дорогой пограничник, этого делать нельзя!
— А если она стала у двери, распластала по ней руки и не пускает меня. Что делать? Умолять?
— Сержант Крюков в соседнем купе. Обычный наш стук в стенку, и он тут. Ясно? — Смирнов добродушно положил руку на плечо Алеся.
Тот ответил:
— Ясно, товарищ старший лейтенант.
— А раз ясно, то продолжайте досмотр следующего купе.
— Есть продолжать.
— А вы, сержант, — обратился он к Крюкову,— идите в служебное купе, я помогу вам проверить документы. А то,— поглядел он на часы,— скоро Брест.
Глава четвертая
До июня младший сержант Куреня прослужил в качестве младшего контролера по пассажирским заграничным поездам. За это время, в паре с контролером сержантом Крюковым, было немало раскрыто случаев провоза иностранцами контрабанды, порнографии, запрещенных и даже явно враждебных печатных материалов.
Вот и недавно. Из-за границы прибыл скорый поезд. В мягком вагоне было полно пассажиров, все ехали вторым классом, лишь в третьем купе размещался в единственном числе элегантно одетый молодой, с баками, брюнет, в больших круглых очках на выдающемся римском носу.
— Господин Фридман, снимите, пожалуйста, очки,— попросил Крюков, так как на паспорте фотография его владельца была без очков.— Откуда следуете? — запустил он «чижика», стараясь сразу узнать, на каком языке говорит пассажир.
— Нихт ферштейн ,— покачал головой Фридман.
— Вы немец? — И, видя удивленное выражение, Крюков повторил по-немецки,— Ир ист дойч?
— О! Их бин дойч ,— поспешил с ответом Фридман.
Дальше запаса немецких слов у Крюкова не хватило и он спросил по-русски:
— Если дойч, так почему же паспорт визирован в Брюсселе?
Немец молчаливо смотрел на Крюкова, стремясь понять вопрос. И наконец, как бы вспомнив, выставил палец:
— А, виз? Брюссэл? Айн момент,— и извлек из кармана пиджака разговорник туриста и в нем показал на строчку: «Я турист»,— потом на другую: «Я приехал из Бельгии».
«Интересно,— подумал Крюков,— говор немецкий, паспорт бельгийский, внешность римско-израильская, а едет черт знает откуда».— И он распорядился:
— Младший сержант Куреня, приступайте к досмотру! — и, уходя в соседнее купе, незаметно для пассажира, подмигнул ему: — «Смотри в оба!»
— Господин Фридман, прошу вас выйти.— Куреня показал на дверь. Пассажир покорно вышел в коридор и, повернувшись спиной к окну, наблюдал, как пограничник досматривает помещение.
Вещей у Фридмана было немного: два чемодана — большой и малый, на крючке висели пальто, шляпа и несессер, да на полочке над диваном старенький транзистор. Вот и все!
Пожелав пассажиру доброго пути, Алесь пошел в соседнее купе, но на полпути остановился! транзистор не выходил из памяти, а в ушах звучало: «Смотри в оба!» И он тут же вспомнил, как в прошлом году контролер Коротченко и его помощник Коля Дейман из подобного приемника извлекли четыре тысячи рублей советских денег. Алесь возвратился в купе и спросил пассажира, показывая на транзистор.
— Работает?
Фридман как бы непонимающе скривил голову. Куреня повторил по-немецки: — Арбайтен?
— Не работает. Падал,— Фридман заученно ответил по-русски, показывая на пол,— и капут.— Оттянув губы, он горестно покачал головой.
— Говорите упал? — промолвил Алесь, и транзистор приложил к уху: в приемнике — ни шороха, ни писка.— Да! — поставил приемник на стол, двинулся к двери, чтобы пригласить сержанта Крюкова. Фридман догадался, в чем дело, и Куреню остановил. Затем выдернул из нагрудного кармана пиджака зеленый карандаш, мгновенно снял с него колпачок, из которого торчали завернутые в трубочку деньги, и протянул карандаш Курене.
Алесь тут же вызвал Крюкова.
Фридман не успел даже спрятать свой «подарок», как тот появился в дверях.
— Товарищ сержант,— волнуясь, докладывал Куреня, показывая на приемник,— этот транзистор не работает,— что на языке пограничника означало: «вызывает подозрение». Алесь стрельнул глазами в сторону большого чемодана и согнутыми пальцами постучал по своей ладони.— А в карандаше, что держит пассажир, деньги, и он их мне совал.
— Пассажир Фридман, предъявите карандаш! — приказал Крюков. Но тот стоял не шевелясь. Крюков повторил, да так грозно, что Фридман даже вздрогнул и покорно положил карандаш на стол. В колпачке оказалась наша пятидесятирублевка. Засунув деньги обратно в колпачок, Крюков приказал Курене позвать капитана Яскевича и таможенника, еще проводившего досмотр в первом купе.
Капитан Яскевич прибыл с двумя пограничниками, а следом за ним пришел и таможенник.
— Докладывайте, что обнаружено,— обратился капитан к Крюкову. Но тот поручил отвечать своему помощнику.
— Во-первых, товарищ капитан, обратите внимание на этот старенький радиоприемник. Он не работает. Во-вторых,— Куреня взором показал на большой, что на полке, чемодан и согнутым пальцем коснулся ладони, как бы говоря, что «дно чемодана странно звучит». Кивком головы капитан безмолвно ответил Курене: «Понял», и тут же в этом убедился сам.
— В-третьих, товарищ капитан, этот господин предложил младшему сержанту взятку,— доложил Крюков.— Она вот здесь,— снял он колпачок, и карандаш и паспорт Фридмана протянул капитану.
— Спасибо, товарищи пограничники. А вы, Моня Фридман, берите вещи и идемте со мной.
В досмотровом зале сотрудник таможни в присутствии Фридмана занялся большим его чемоданом, а другой таможенник — годами постарше — взялся за транзистор. На первый взгляд внутри приемника было все в порядке.
— Видимо, господин, ваши батареи тово, сели.— И он привычным движением их вынул, осмотрел, взвесил каждую на ладони, потом две перебросил на другую ладонь, так как ему показалось, что эти две, как бы легче одной той, что осталась на левой ладони. И, многозначительно чмокнув губами, обратился к Яскевичу:
— Что-то эти две, товарищ капитан, легковаты,— покачал таможенник две батарейки, что были в правой руке.
Капитан Яскевич для убедительности сам взвесил батарейки на своих ладонях и промычал:
— М-да! Ясно, что дело темное,— и передал их таможеннику.— Вскрывайте!
Фридман, сгорбившись, сидел у стола, а когда острие отвертки коснулось заливки, он еще больше согнулся, не зная куда деть лицо. И вот звучно захрустел в батарейке верхний слой заливки, отчего Моня даже болезненно ахнул: под заливкой оказались, обвернутые вокруг электрода, двадцать советских сторублевок. То же самое было и во второй.
Капитан обдал псевдонемца колючим взглядом:
— Четыре тысячи рублей. Богато! — А теперь, Моня Фридман, прошу вас сюда к вашему чемодану.
Моня еле-еле поднялся и подошел к столу досмотра, на котором лежали его вещи, вынутые из чемодана.
— Поскольку второе дно заделано наглухо,— я в вашем присутствии вскрываю его ножом,— сказал по-русски таможенник,— или здесь все же есть какая-нибудь хитрость, чтобы не портя дна, вскрыть?
— Нет никакой хитрости,— тоже по-русски, с акцентом, ответил Моня и болезненно сморщился от писка ножа, прорезавшего картон второго дна.
— Это понятно: сионистские листовки, письма евреям России,— капитан Яскевич клал все это стопкой рядом с чемоданом.— А вот с книгами трудновато разобраться, они напечатаны на разных языках. Хотя вот данная книга мне понятна — это книга Троцкого. Стоп. Да тут есть книжечки и на русском языке,— и Яскевич листанул несколько страниц такой книжечки.— Хлестко написано. Сквозь красивые слова — словно из-за роз — выпирает свиное рыло антисоветчины... Большой же у вас, Моня, ассортимент сионистского и антисоветского товара. Так кто же вы, Фридман, на самом деле?
При наличии таких веских улик, при последующих беседах Фридману ничего не оставалось делать, как признаться, что он сотрудник антисоветской организации МАОЗ...
Вскоре Алесь узнал, что за эту «находку» при досмотре его повысили в звании.
"Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе... и тем кто сделал к ней первой шаг..."
- pogranec
- Администратор
- Сообщения: 3389
- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38
- место службы: Республика Беларусь
- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с
- Контактная информация:
Re: Всегда на страже (очерки, рассказы, повести)
Глава пятая
Все шло своим чередом. Бывали такие дни, когда в поездах не было ни одного нарушения пассажирами пограничного режима. Иной раз Алесю казалось, что потепление в международных отношениях заставило притихнуть даже врагов Советского Союза. В те дни шли к нам «поезда дружбы», были целые вагоны веселых делегаций из разных стран, следовавших на молодежные форумы; немало ехало ученых на коллоквиумы, симпозиумы, конференции; коммерсантов и разных специалистов — на промышленные выставки, встречи... Вообще все разноязычное население поездов еще на границе хорошо встречало появление пограничников, как первых представителей великой Советской страны. А потом снова нет-нет да и в каком-нибудь поезде — товарном или пассажирском — пограничники находили что-нибудь запрещенное. Виновниками провоза антисоветчины, валюты, контрабанды и порнографии были люди разных национальностей, аборигены всех материков земного шара. И все они, как правило, были либо представителями буржуазно-капиталистического мира, либо прямыми агентами антисоветских организаций. Изредка среди них попадались люди из неимущих классов, различными путями попавшие в тенета этих организаций и враждебных социалистическому миру разведок.
«Но кто бы они ни были,— мысленно рассуждал Алесь, сидя на скамейке,— это враги. Тьфу, гады! — сплюнул он.— Лезут к нам в душу напролом и хотят всякой пошлой дрянью подкупить даже нас, пограничников!.. Нет, господа! Не удастся!»
Подошел старший контролер и прервал рассуждения Алеся. Алесь встал, но тот, не останавливаясь, промолвил:
— Какой, Куреня, обворожительный вечер! — и пошагал дальше к хохотавшим пограничникам.— Чего это вы? — долетел оттуда его голос.
— Действительно чудо-вечер! — прошептал Алесь, глядя на небо и ища на южном небосклоне яркую звезду, которую он назвал звездой Аксаны. И сейчас на него нахлынуло будоражившее сердце настроение: ведь завтра, после наряда, обещано увольнение в город, и сейчас Куреня жил радостью встречи с Аксаной. Вот это-то настроение и отвело его подальше от товарищей, к липе, благоухавшей ароматом цветения, где и небо казалось Алесю синее, звезды ярче, да и листва как бы нашептывала что-то знакомое и сердцу близкое. А тут еще чаровала летевшая издалека мелодия любимой песни Аксаны. И Алесь тихонько насвистывал:
Ты мне весною приснилася,
Словно так было загадано.
Сердце тревожно забилося
Светлой надеждой крылатою...
Но подошедший поезд и команда: «Контролеры! По вагонам!» — прервали воркование влюбленного сердца. Куреня вмиг преобразился, побежал выполнять свой долг пограничника.
В первом купе пограничников встретили радушно: свой брат — военные, прапорщики сверхсрочной службы, первый раз ехавшие из-за границы в отпуск.
— Вот наши пожитки и подарки.— Молодой чернобровый прапорщик показал жестом на постели, на которых лежали распахнутые чемоданы. Причем все то, что могло вызвать подозрение, было выложено поверх вещей. А сам коробку, похожую на ларец с драгоценностями, даже выставил на стол.
— На, друг, смотри,— раскрыл он «ларец».— Родни у меня целый колхоз и почти все женский пол. Кал-сдой надо что-то подарить. Чай из-за границы еду. Да и знакомым девчатам тоже...— И тут он взял из коробки на ладонь две позолоченные брошки: одна с красными, другая с изумрудными камушками.
— Как думаешь, такую можно дивчине подарить?..
Восхищенный брошкой, сверкавшей изумрудными бусинками, Куреня молчал. А в его памяти помимо его воли появилась Аксана с этой брошкой на светлом, с сиреневыми цветочками, платье.
— Не обидится? — продолжал прапорщик,— Ведь эти украшения там, в Венгрии, на наши деньги гроши стоят, да и камни стекляшки.
— Что вы? Замечательный подарок. Красота. А на светлом платье девушки будет играть и золотом, и изумрудом.
— Нравится?
— Очень.
— Девушка есть?
— А у кого в нашем возрасте нет? — И, боясь, как бы прапорщик не предложил ему брошь, поспешил закончить разговор и приступил к досмотру купе. Расставаясь с прапорщиками, сказал:
— А что касается провоза ваших «драгоценностей», то здесь их будут смотреть таможенники. И они скажут, что можно, а что нельзя провозить.— И он направился по вагону дальше.
Все шло благополучно до последнего отделения, где ехал длинноногий шатен с паспортом датчанина. Ехал налегке: дна небольших чемодана и туристская сумка, Немного говорил по-русски.
— Здравствуйте, гражданин военный! — приветствовал датчанин. Куреня еще не успел промолвить и слова, как он предъявил паспорт.
Личность пассажира и даже одежда сходились с фотографией в паспорте.
Тем временем, когда Куреня рассматривал документы, пассажир расторопно снял с полки чемоданы, положил на диван и, не ожидая на этот счет приказаний, открыл их крышки.
— Ваш чин? — постучал он пальцами по своему плечу.
— Сержант,— ответил Куреня.
— Пожалистэ, гражданин сержант.— Пассажир показал на чемоданы и на стол положил для досмотра еще сумку,— пожалистэ, смотритэ.— И принял безразличный вид.— Плехо здес нет.
— Вещи будут смотреть представители таможни,— остановил его Куреня.— А сейчас прошу вас, господин Хием, выйти в коридор.
— Пожалистэ,— галантно кивнул датчанин и вышел. Куреня стал придирчиво досматривать помещение. От его взгляда ничего не ускользнуло, даже такая мелочь, как хвостик паутинки на потолке у осветительного плафона. Не найдя ничего предосудительного и усмехнувшись своей подозрительности, он пожелал пассажиру доброго пути и направился в служебное отделение, чтобы там засесть за проверку документов, предварительно заглянув во второй тамбур, где младший контролер, стоя на лесенке, завершал досмотр вагона.
— Ну как, Вася, кончаешь? — поинтересовался сержант Куреня.
— Почти. Вот тут что-то заело.
— Фуражку снял бы, замажешь,— посоветовал сержант.
— Не замажу,— Василий провел рукой по потолку.— Чистый.
Потолок действительно блестел чистотой. И тут сомнение в полный голос заговорило в настороженной душе Алеся: «Смотри, сержант, здесь в тамбуре, да и во всем вагоне потолки блестят. А вот в последнем купе — паутинка. Как ты думаешь — почему? Дорожная пыль,— мысленно ответил Алесь.— А пыль ли, сержант?»
— Ты чего задумался? — удивленно смотрел на него Василий.
— Да понимаешь ты, меня смущает паутинка на потолке в последнем купе.
— Паутинка? А где? На потолке?
— У сочленения осветительного плафона.
— У сочленения? — протянул Василий. — А как учил майор? «Раз тебя смущает у сочленения свежесть резьбы, новая царапина или даже грязная паутинка — загляни туда. От этого ничего не будет!»
— Пожалуй, ты прав. Пойду. А ты, как только тут закончишь, приходи ко мне.— И Куреня, к удивлению датчанина, вернулся.
— Господин сержант?.. А, таможена? — тыкал тот пальцем Б еще открытый чемодан. А по всему было видно другое, что он хотел спросить: «В чем дело?»
— Таможенник скоро придет. Он,— Куреня выставил пятерню и еще один палец,— в шестом купе.— Затем встал на лесенку и с нее стал отвинчивать крепление потолочного приплафонного пластика, изредка поглядывая на пассажира, лицо которого застыло в неподвижности, хотя тот и делал вид, что это его не касается. Таким он остался и тогда, когда пограничник извлек из-под пластика пакет.
— Что тут?
Датчанин, выражая удивление, приподнял плечи:
— Не знайт. Не наш.
— Значит, бесхозное,— иронически буркнул Куреня и спустился с лесенки, чтобы вызвать капитана Яскевича. Теперь он никак не мог обойти большого чемодана, и уголком согнутого пальца стукнул по его боковинке — звук был нормальный. Провел ладонью по верхней обвязке стенок — ничего. Тогда, глядя на датчанина, запустил пальцы в глубь чемодана — все нормально. И, не снимая руки с кромки его стенки, многозначительно произнес:
— Так! Все ясно!
Тут нервы датчанина окончательно сдали, и он сник.
Куреня позвал младшего сержанта и «на носках» послал его за капитаном. Капитан Яскевич находился в соседнем вагоне и буквально минуты через три уже был на месте ЧП.
По взбудораженному лицу сержанта Курени и по тому, как он требовал от пассажира: «Ничего не трогать!» — капитан Яскевич понял, что Алесь находится на пределе.
— Сержант Куреня, спокойствие! — строго, по-отечески смотрел на него Яскевич.— Докладывайте, что здесь произошло?
— Шкура он, вот кто. Как все, гадость совал, порнографию!..— закипятился Алесь.
Тут вошел таможенник,
— Петр Егорович,— обратился к нему капитан и показал на вскрытую полоску у плафона,— отсюда сержант Куреня извлек вот эту дрянь,— хлопнул он ладонью по брошюрам, что были в пакете.— Господин Хием говорит, что это не его и что об этом он ничего не знает... В таком случае,— Яскевич сверлил взглядом датчанина,— мы должны еще раз досмотреть вещи господина Хиема.— Но тот стоял безмолвно, как бы ожидая: «А что дальше будет?» И капитан распорядился, показывая на чемодан: — Петр Егорович, приступайте к досмотру.
Петр Егорович со всей таможенной тщательностью просмотрел вещи, выкладывая их на диван. А потом поставил чемодан на стол и с тем же вниманием проверил дно и крышку — все было нормально. Нормальными казались и его стенки, и все же опытный глаз таможенника заметил, что книзу они скошены и толще дна, да и звук их был несколько глуховат.
— А знаете, товарищ капитан, стенки вызывают у меня подозрение.
Капитан Яскевич провел ладонью по всему их обводу и промолвил:
— Да, тонкая работа. С первого взгляда и не распознаешь. Что тут у вас? — капитан Яскевич стучал по стенке чемодана.
— Мы не понимайт,— поежился датчанин.
— Ну, что ж, Петр Егорович, вскрываем?
— Не советую,— качнул головой таможенник.— А вдруг сыпучее? Вскроем у нас, в таможне.
— Тогда вот вам пограничник,— Яскевич показал на младшего сержанта,— укладывайте все это в чемоданы, а я тем временем помогу сержанту проверить документы и к приходу поезда на станцию приду.
Алесь почувствовал в этом недоверие к нему и удивленно смотрел на капитана.
— Сержант, пошли. Скоро вокзал.— И Яскевич прошагал в служебное купе. Там он перепроверил все паспорта и передал их Курене:
— Идите, раздавайте паспорта пассажирам, а после приходите в дежурную комнату КПП.
В досмотровом зале таможенник осторожно вскрыл внутри чемодана одну боковинку и оттуда извлек массу маленьких беленьких целлофановых пакетиков.
— Похоже, товарищи, что это наркотики.— И он принялся за другую боковинку — там то же самое. Так было и в остальных.
— Что это такое? — держа пакетик, спросил капитан.
— Мы не понимайт,— развел руками Хием.— Мы дат-ча-нин,— вычитал он из разговорника.
— А датчанин ли вы, господин Хием? — оборвал его Яскевич, увидев, что разговорник немецко-русский.
Хием насупился и, подумав, ответил:
— Да, я эст датчанин, господин капитан.
Как хотелось капитану Яскевичу бросить в лицо этому отвратительному субъекту: «Нет. По этому грузу, да по вашему разговорнику вы, господин Хием, на датчанина не похожи. Бот в соседнем вагоне едут туристы из Копенгагена, да и в нашем вагоне — ученые, так это датчане! Хорошие, приветливые люди, без подобной пакости».
Глава шестая
Составив акт на все, что было найдено у так называемого датчанина, и сдав его майору госбезопасности, капитан Яскевич с сержантом Куреней поднялся в дежурное помещение КПП и там, в одной из свободных комнат, один на один, не стесняясь в выражениях, по-отечески отчитал его. В заключение сказал:
— За невыдержанность и грубость, проявленные при исполнении служебных обязанностей к пассажиру, отстраняю вас от дежурства и приказываю немедленно отправиться в роту. Командиру роты я сообщу. Идите!
Но Куреня стоял, как пригвожденный к полу, и смотрел на капитана.
— Что вам непонятно?
— Мне, товарищ капитан, все понятно,— дрогнувшим голосом ответил Куреня.— Но одно непонятно. Ведь я же сорвался, защищая свою честь, честь советского пограничника, честь Родины.
— Я так и понимаю,— видя волнение Алеся, более мягко проговорил Яскевич.— Но при таком вашем состоянии вы сегодня службу досмотра и контроля нести не можете. Ступайте!
И пошел Алесь, но не к автобусу и даже не стал ожидать попутного поезда к границе, а, удрученный горем, пошагал напрямик пешком.
Уже вечерело, когда Куреня подходил к своей казарме. Багровое солнце, предвещая грозу, садилось за темный горизонт, а Буг дышал не прохладой, а духотой. С лица Алеся катился пот и не столь от духоты, как от переживания: он очень боялся, что командование вызовет и скажет: «С вашим характером, сержант Куреня, служить на КПП нельзя. Так поступать, как поступили вы, законом запрещено! Ясно?» «Все ясно,— с большой душевной болью вздохнул Алесь.— Только обидно...»
— Чего это, сержант, вы раньше времени вернулись? Не заболели, часом? — поинтересовался дежурный по контрольному посту.
— Заболел, товарищ прапорщик.— У Алеся не повернулся язык сказать правду.
И если ничего не ведал этот дежурный, то дежурный по роте Миша Савченко знал. Это заметил Алесь по его странному взгляду.
Савченко искренне переживал за Алеся, встретил его в коридоре и утянул прямо в Ленинскую комнату:
— Как же это там, Алесь, ты сорвался? — голосом, полным сожаления, спросил его Савченко.
— Ты бы тоже сорвался.
Михаил дружески ответил:
— Нет, не сорвался бы.
— Не сорвался бы! — повторил Куреня,— Брось, Миша. Кто-кто, а я хорошо помню, какой ты был, когда милая девушка, дочь отъезжающих в Израиль Гинзбургов,— ввернула тебе валюту, только чтобы ты вторично не вскрывал багаж, куда ее папаша, закрывая ящик, втихую сунул мешочек с золотом. На тебя было страшно смотреть. Ты тогда не только швырнуть, но убить бы мог.
— Но, как видишь, не швырнул и не убил... А то, что вспыхнул, так это ничего. Хотя и вспыхивать, дорогой Алесь, нам тоже нельзя. И за ту вспышку я тогда себя очень корил.
— И я себя тоже корю,— словно от боли, нахмурился Алесь.— Скажу тебе как другу, уж очень я полюбил нашу службу. Здесь всегда как на войне. Все время начеку, в боевой собранности, в действии. Лицом к лицу с врагом. Врагом коварным, но с доброй рожей гостя. И вот когда я раскрываю такого диверсанта, то чувствую, что совершил благое дело и ногой придавил ядовитую гадину.— Тут Алесь, закусив губу, замолк и сощуренным взором смотрел далеко-далеко.
— Ты чего? — спросил его Савченко.— Так хорошо говорил и вдруг замолчал. Алесь, да ты хоть меня слышишь?
Куреня с шумом выдохнул полной грудью!
— Слышу. И вот на этом месте, когда гадюка пускает свой змеиный яд — яд подкупа, я еле-еле сдерживаюсь... И сегодня, как видишь, сорвался.— Алесь, закусив губу, отошел к окну и, чуточку передохнув, оттуда более тихо продолжал:
— А теперь, Миша, боюсь, как бы начальство меня не махнуло совсем из погранвойск.
— Что ты, пограничник, раньше времени с ума сходишь? — Савченко по-дружески потряс его за плечи.— Не махнет. Только ты перед командиром роты не ерепенься. Сейчас он у себя. Иди помой физиономию, а то она у тебя, как спьяна, красная, и сейчас же к нему ступай.
— Сержант Куреня, доложите обязанности и права контролера и старшего контролера КПП! — комроты в упор смотрел на него. Этот взгляд не предвещал ничего хорошего.
Алесь подробно рассказал все, что по этому поводу предписывало наставление.
— Вот видите, какая у контролера власть! Так что совеем не следует к нарушителям применять грубость, какую вы позволили себе при досмотре с датчанином. Спокойно бы положили порнографическую колоду карт на стол, вызвали бы старшего контролера, а дальше пошло бы все своим чередом. А так швырнули, и — чэпэ! В нашем деле, сержант, требуется выдержка и к тому же — большая! И это зарубите себе на носу.
— Ясно, товарищ майор. Только прошу вас — не отчисляйте меня...
— Не отчислять? — еще строже насупился командир роты.— А как же иначе с вами поступить? — встал он и заходил за столом.— В мае француженку толкнули, да так, что она аж рухнула на диван и чуть стенку не проломила...
От этих слов горькая обида охватила Алеся, и он вопреки субординации выкрикнул:
— Не толкал я ее, товарищ майор, не толкал. Она сама, сама грохнулась. Вот честное комсомольское, я ее не трогал...
Командир роты прервал его, стуча карандашом по столу:
— Вот видите, даже со мной ведете себя невыдержанно.
— Простите, товарищ майор, это последний раз. Больше не будет.— Алесь глотнул воздуха.— Еще раз прошу вас — не откомандировывайте меня.
— Это будет решать командование батальона. А пока что я лишаю вас увольнения в город.
Алесь чуть было не вскрикнул: «Товарищ майор, любое наказание, только не это!» Но, опустив руки по швам, покорно ответил:
— Слушаюсь, неувольнение в город. Разрешите идти?
— Идите,— кивнул головой майор.
На другой день ровно в одиннадцать Аксана появилась на вокзале и, в ожидании Алеся, села в условленном месте — на красный диван, как раз против книжного ларька. Но прошло четверть часа, а Алеся все нет и нет. Вспыхнула досада: «Уходи!» А влюбленное сердце выстукивало наперекор: «Погоди, погоди...» И девушка сидела. Увидев в главном проходе пограничника, она было поднялась навстречу, но застеснялась.
Пограничник, встретив ее взгляд, подошел сам;
— Вы Аксана? Ждете Алеся Куреню?
— Да. Что с ним? — с тревогой прозвучал ее голос.
— С ним? — пограничник уклонился от ответа.— Ничего особенного. Он просил вам передать, что сегодня из-за службы прийти не может.
— Как же теперь быть? — словно про себя промолвила Аксана, сердцем чуя, что с Алесем произошло что-то недоброе. И она загорелась неудержимым желанием повидаться с ним сегодня же, сейчас. Но как? Ее глаза явно просили помочь.
— Я приехала из колхоза «Пограничник» и сегодня же еду обратно,— грустно звучали слова Аксаны.— И мне во что бы то ни стало надо увидеть Алеся...
Грустное настроение девушки подкупило пограничника, и он посоветовал ей:
— А вы поезжайте к нему.
— К нему? — радостно посмотрела на него Аксана.— А пропустят?
— Сегодня же воскресенье. Родительский день,— улыбнулся он.— Так что не теряйте времени, садитесь на автобус и летите. Успеете еще до обеда увидеться с ним. Паспорт с собой?
— С собой.
— В проходной предъявите паспорт, скажете, что из колхоза «Пограничник» и идете к брату.
Аксана так и сделала. И в начале первого они с Алесем уже сидели в укромном уголке фойе клуба.
И, как Алесь ни крепился, чтобы не проговориться, все же она выпытала у него причину грусти.
...— Не выдержал и запустил колоду ему в харю,— шептал Алесь, до боли сжимая пальцы любимой.— Только ты, Аксана, об этом никому ни гу-гу!
— Что ты, дорогой. Да разве можно? — «Дорогой» с ее уст слетело впервые и так, как будто бы она клялась ему в верности навсегда.
— Спасибо тебе, Аксана.— Алесь еще крепче сжал ее пальцы.— Скажи, только не тая,— ты меня осуждаешь?
— Тебя осуждать? За что? Наоборот, За это я тебя еще больше полюбила.
— Куреня! Чертушка! Я всю казарму обежал, ища тебя,— с порога выкрикнул дежурный.— На носках к комбату!
— Ну, Аксана, прощай.— Алесь протянул ей руку. Но Аксана не приняла ее,
— Иди. Ни пуха ни пера! Я буду здесь тебя ждать.— Проводив Алеся взором, Аксана села на уголок, собралась в комок, полная волнения и тревоги. Минуты ожидания казались ей вечностью. Нервы настолько были напряжены, что она при каждом звуке шагов вставала, готовая броситься навстречу. И наконец послышались знакомые торопливые шаги, и в дверях — Алесь. Аксана бросилась к нему:
— Ну как?
— Все, милая, в порядке.— Алесь взял ее под локоть, провел в тот же уголок, там посадил ее на стул и сам опустился с ней рядом.— Прочесали так, что аж под подметками мокро стало... Но оставили здесь.
— Здесь? — радостно прозвучал голос Аксаны.— И она, обвив руками шею Алеся, жарко поцеловала его.
Все шло своим чередом. Бывали такие дни, когда в поездах не было ни одного нарушения пассажирами пограничного режима. Иной раз Алесю казалось, что потепление в международных отношениях заставило притихнуть даже врагов Советского Союза. В те дни шли к нам «поезда дружбы», были целые вагоны веселых делегаций из разных стран, следовавших на молодежные форумы; немало ехало ученых на коллоквиумы, симпозиумы, конференции; коммерсантов и разных специалистов — на промышленные выставки, встречи... Вообще все разноязычное население поездов еще на границе хорошо встречало появление пограничников, как первых представителей великой Советской страны. А потом снова нет-нет да и в каком-нибудь поезде — товарном или пассажирском — пограничники находили что-нибудь запрещенное. Виновниками провоза антисоветчины, валюты, контрабанды и порнографии были люди разных национальностей, аборигены всех материков земного шара. И все они, как правило, были либо представителями буржуазно-капиталистического мира, либо прямыми агентами антисоветских организаций. Изредка среди них попадались люди из неимущих классов, различными путями попавшие в тенета этих организаций и враждебных социалистическому миру разведок.
«Но кто бы они ни были,— мысленно рассуждал Алесь, сидя на скамейке,— это враги. Тьфу, гады! — сплюнул он.— Лезут к нам в душу напролом и хотят всякой пошлой дрянью подкупить даже нас, пограничников!.. Нет, господа! Не удастся!»
Подошел старший контролер и прервал рассуждения Алеся. Алесь встал, но тот, не останавливаясь, промолвил:
— Какой, Куреня, обворожительный вечер! — и пошагал дальше к хохотавшим пограничникам.— Чего это вы? — долетел оттуда его голос.
— Действительно чудо-вечер! — прошептал Алесь, глядя на небо и ища на южном небосклоне яркую звезду, которую он назвал звездой Аксаны. И сейчас на него нахлынуло будоражившее сердце настроение: ведь завтра, после наряда, обещано увольнение в город, и сейчас Куреня жил радостью встречи с Аксаной. Вот это-то настроение и отвело его подальше от товарищей, к липе, благоухавшей ароматом цветения, где и небо казалось Алесю синее, звезды ярче, да и листва как бы нашептывала что-то знакомое и сердцу близкое. А тут еще чаровала летевшая издалека мелодия любимой песни Аксаны. И Алесь тихонько насвистывал:
Ты мне весною приснилася,
Словно так было загадано.
Сердце тревожно забилося
Светлой надеждой крылатою...
Но подошедший поезд и команда: «Контролеры! По вагонам!» — прервали воркование влюбленного сердца. Куреня вмиг преобразился, побежал выполнять свой долг пограничника.
В первом купе пограничников встретили радушно: свой брат — военные, прапорщики сверхсрочной службы, первый раз ехавшие из-за границы в отпуск.
— Вот наши пожитки и подарки.— Молодой чернобровый прапорщик показал жестом на постели, на которых лежали распахнутые чемоданы. Причем все то, что могло вызвать подозрение, было выложено поверх вещей. А сам коробку, похожую на ларец с драгоценностями, даже выставил на стол.
— На, друг, смотри,— раскрыл он «ларец».— Родни у меня целый колхоз и почти все женский пол. Кал-сдой надо что-то подарить. Чай из-за границы еду. Да и знакомым девчатам тоже...— И тут он взял из коробки на ладонь две позолоченные брошки: одна с красными, другая с изумрудными камушками.
— Как думаешь, такую можно дивчине подарить?..
Восхищенный брошкой, сверкавшей изумрудными бусинками, Куреня молчал. А в его памяти помимо его воли появилась Аксана с этой брошкой на светлом, с сиреневыми цветочками, платье.
— Не обидится? — продолжал прапорщик,— Ведь эти украшения там, в Венгрии, на наши деньги гроши стоят, да и камни стекляшки.
— Что вы? Замечательный подарок. Красота. А на светлом платье девушки будет играть и золотом, и изумрудом.
— Нравится?
— Очень.
— Девушка есть?
— А у кого в нашем возрасте нет? — И, боясь, как бы прапорщик не предложил ему брошь, поспешил закончить разговор и приступил к досмотру купе. Расставаясь с прапорщиками, сказал:
— А что касается провоза ваших «драгоценностей», то здесь их будут смотреть таможенники. И они скажут, что можно, а что нельзя провозить.— И он направился по вагону дальше.
Все шло благополучно до последнего отделения, где ехал длинноногий шатен с паспортом датчанина. Ехал налегке: дна небольших чемодана и туристская сумка, Немного говорил по-русски.
— Здравствуйте, гражданин военный! — приветствовал датчанин. Куреня еще не успел промолвить и слова, как он предъявил паспорт.
Личность пассажира и даже одежда сходились с фотографией в паспорте.
Тем временем, когда Куреня рассматривал документы, пассажир расторопно снял с полки чемоданы, положил на диван и, не ожидая на этот счет приказаний, открыл их крышки.
— Ваш чин? — постучал он пальцами по своему плечу.
— Сержант,— ответил Куреня.
— Пожалистэ, гражданин сержант.— Пассажир показал на чемоданы и на стол положил для досмотра еще сумку,— пожалистэ, смотритэ.— И принял безразличный вид.— Плехо здес нет.
— Вещи будут смотреть представители таможни,— остановил его Куреня.— А сейчас прошу вас, господин Хием, выйти в коридор.
— Пожалистэ,— галантно кивнул датчанин и вышел. Куреня стал придирчиво досматривать помещение. От его взгляда ничего не ускользнуло, даже такая мелочь, как хвостик паутинки на потолке у осветительного плафона. Не найдя ничего предосудительного и усмехнувшись своей подозрительности, он пожелал пассажиру доброго пути и направился в служебное отделение, чтобы там засесть за проверку документов, предварительно заглянув во второй тамбур, где младший контролер, стоя на лесенке, завершал досмотр вагона.
— Ну как, Вася, кончаешь? — поинтересовался сержант Куреня.
— Почти. Вот тут что-то заело.
— Фуражку снял бы, замажешь,— посоветовал сержант.
— Не замажу,— Василий провел рукой по потолку.— Чистый.
Потолок действительно блестел чистотой. И тут сомнение в полный голос заговорило в настороженной душе Алеся: «Смотри, сержант, здесь в тамбуре, да и во всем вагоне потолки блестят. А вот в последнем купе — паутинка. Как ты думаешь — почему? Дорожная пыль,— мысленно ответил Алесь.— А пыль ли, сержант?»
— Ты чего задумался? — удивленно смотрел на него Василий.
— Да понимаешь ты, меня смущает паутинка на потолке в последнем купе.
— Паутинка? А где? На потолке?
— У сочленения осветительного плафона.
— У сочленения? — протянул Василий. — А как учил майор? «Раз тебя смущает у сочленения свежесть резьбы, новая царапина или даже грязная паутинка — загляни туда. От этого ничего не будет!»
— Пожалуй, ты прав. Пойду. А ты, как только тут закончишь, приходи ко мне.— И Куреня, к удивлению датчанина, вернулся.
— Господин сержант?.. А, таможена? — тыкал тот пальцем Б еще открытый чемодан. А по всему было видно другое, что он хотел спросить: «В чем дело?»
— Таможенник скоро придет. Он,— Куреня выставил пятерню и еще один палец,— в шестом купе.— Затем встал на лесенку и с нее стал отвинчивать крепление потолочного приплафонного пластика, изредка поглядывая на пассажира, лицо которого застыло в неподвижности, хотя тот и делал вид, что это его не касается. Таким он остался и тогда, когда пограничник извлек из-под пластика пакет.
— Что тут?
Датчанин, выражая удивление, приподнял плечи:
— Не знайт. Не наш.
— Значит, бесхозное,— иронически буркнул Куреня и спустился с лесенки, чтобы вызвать капитана Яскевича. Теперь он никак не мог обойти большого чемодана, и уголком согнутого пальца стукнул по его боковинке — звук был нормальный. Провел ладонью по верхней обвязке стенок — ничего. Тогда, глядя на датчанина, запустил пальцы в глубь чемодана — все нормально. И, не снимая руки с кромки его стенки, многозначительно произнес:
— Так! Все ясно!
Тут нервы датчанина окончательно сдали, и он сник.
Куреня позвал младшего сержанта и «на носках» послал его за капитаном. Капитан Яскевич находился в соседнем вагоне и буквально минуты через три уже был на месте ЧП.
По взбудораженному лицу сержанта Курени и по тому, как он требовал от пассажира: «Ничего не трогать!» — капитан Яскевич понял, что Алесь находится на пределе.
— Сержант Куреня, спокойствие! — строго, по-отечески смотрел на него Яскевич.— Докладывайте, что здесь произошло?
— Шкура он, вот кто. Как все, гадость совал, порнографию!..— закипятился Алесь.
Тут вошел таможенник,
— Петр Егорович,— обратился к нему капитан и показал на вскрытую полоску у плафона,— отсюда сержант Куреня извлек вот эту дрянь,— хлопнул он ладонью по брошюрам, что были в пакете.— Господин Хием говорит, что это не его и что об этом он ничего не знает... В таком случае,— Яскевич сверлил взглядом датчанина,— мы должны еще раз досмотреть вещи господина Хиема.— Но тот стоял безмолвно, как бы ожидая: «А что дальше будет?» И капитан распорядился, показывая на чемодан: — Петр Егорович, приступайте к досмотру.
Петр Егорович со всей таможенной тщательностью просмотрел вещи, выкладывая их на диван. А потом поставил чемодан на стол и с тем же вниманием проверил дно и крышку — все было нормально. Нормальными казались и его стенки, и все же опытный глаз таможенника заметил, что книзу они скошены и толще дна, да и звук их был несколько глуховат.
— А знаете, товарищ капитан, стенки вызывают у меня подозрение.
Капитан Яскевич провел ладонью по всему их обводу и промолвил:
— Да, тонкая работа. С первого взгляда и не распознаешь. Что тут у вас? — капитан Яскевич стучал по стенке чемодана.
— Мы не понимайт,— поежился датчанин.
— Ну, что ж, Петр Егорович, вскрываем?
— Не советую,— качнул головой таможенник.— А вдруг сыпучее? Вскроем у нас, в таможне.
— Тогда вот вам пограничник,— Яскевич показал на младшего сержанта,— укладывайте все это в чемоданы, а я тем временем помогу сержанту проверить документы и к приходу поезда на станцию приду.
Алесь почувствовал в этом недоверие к нему и удивленно смотрел на капитана.
— Сержант, пошли. Скоро вокзал.— И Яскевич прошагал в служебное купе. Там он перепроверил все паспорта и передал их Курене:
— Идите, раздавайте паспорта пассажирам, а после приходите в дежурную комнату КПП.
В досмотровом зале таможенник осторожно вскрыл внутри чемодана одну боковинку и оттуда извлек массу маленьких беленьких целлофановых пакетиков.
— Похоже, товарищи, что это наркотики.— И он принялся за другую боковинку — там то же самое. Так было и в остальных.
— Что это такое? — держа пакетик, спросил капитан.
— Мы не понимайт,— развел руками Хием.— Мы дат-ча-нин,— вычитал он из разговорника.
— А датчанин ли вы, господин Хием? — оборвал его Яскевич, увидев, что разговорник немецко-русский.
Хием насупился и, подумав, ответил:
— Да, я эст датчанин, господин капитан.
Как хотелось капитану Яскевичу бросить в лицо этому отвратительному субъекту: «Нет. По этому грузу, да по вашему разговорнику вы, господин Хием, на датчанина не похожи. Бот в соседнем вагоне едут туристы из Копенгагена, да и в нашем вагоне — ученые, так это датчане! Хорошие, приветливые люди, без подобной пакости».
Глава шестая
Составив акт на все, что было найдено у так называемого датчанина, и сдав его майору госбезопасности, капитан Яскевич с сержантом Куреней поднялся в дежурное помещение КПП и там, в одной из свободных комнат, один на один, не стесняясь в выражениях, по-отечески отчитал его. В заключение сказал:
— За невыдержанность и грубость, проявленные при исполнении служебных обязанностей к пассажиру, отстраняю вас от дежурства и приказываю немедленно отправиться в роту. Командиру роты я сообщу. Идите!
Но Куреня стоял, как пригвожденный к полу, и смотрел на капитана.
— Что вам непонятно?
— Мне, товарищ капитан, все понятно,— дрогнувшим голосом ответил Куреня.— Но одно непонятно. Ведь я же сорвался, защищая свою честь, честь советского пограничника, честь Родины.
— Я так и понимаю,— видя волнение Алеся, более мягко проговорил Яскевич.— Но при таком вашем состоянии вы сегодня службу досмотра и контроля нести не можете. Ступайте!
И пошел Алесь, но не к автобусу и даже не стал ожидать попутного поезда к границе, а, удрученный горем, пошагал напрямик пешком.
Уже вечерело, когда Куреня подходил к своей казарме. Багровое солнце, предвещая грозу, садилось за темный горизонт, а Буг дышал не прохладой, а духотой. С лица Алеся катился пот и не столь от духоты, как от переживания: он очень боялся, что командование вызовет и скажет: «С вашим характером, сержант Куреня, служить на КПП нельзя. Так поступать, как поступили вы, законом запрещено! Ясно?» «Все ясно,— с большой душевной болью вздохнул Алесь.— Только обидно...»
— Чего это, сержант, вы раньше времени вернулись? Не заболели, часом? — поинтересовался дежурный по контрольному посту.
— Заболел, товарищ прапорщик.— У Алеся не повернулся язык сказать правду.
И если ничего не ведал этот дежурный, то дежурный по роте Миша Савченко знал. Это заметил Алесь по его странному взгляду.
Савченко искренне переживал за Алеся, встретил его в коридоре и утянул прямо в Ленинскую комнату:
— Как же это там, Алесь, ты сорвался? — голосом, полным сожаления, спросил его Савченко.
— Ты бы тоже сорвался.
Михаил дружески ответил:
— Нет, не сорвался бы.
— Не сорвался бы! — повторил Куреня,— Брось, Миша. Кто-кто, а я хорошо помню, какой ты был, когда милая девушка, дочь отъезжающих в Израиль Гинзбургов,— ввернула тебе валюту, только чтобы ты вторично не вскрывал багаж, куда ее папаша, закрывая ящик, втихую сунул мешочек с золотом. На тебя было страшно смотреть. Ты тогда не только швырнуть, но убить бы мог.
— Но, как видишь, не швырнул и не убил... А то, что вспыхнул, так это ничего. Хотя и вспыхивать, дорогой Алесь, нам тоже нельзя. И за ту вспышку я тогда себя очень корил.
— И я себя тоже корю,— словно от боли, нахмурился Алесь.— Скажу тебе как другу, уж очень я полюбил нашу службу. Здесь всегда как на войне. Все время начеку, в боевой собранности, в действии. Лицом к лицу с врагом. Врагом коварным, но с доброй рожей гостя. И вот когда я раскрываю такого диверсанта, то чувствую, что совершил благое дело и ногой придавил ядовитую гадину.— Тут Алесь, закусив губу, замолк и сощуренным взором смотрел далеко-далеко.
— Ты чего? — спросил его Савченко.— Так хорошо говорил и вдруг замолчал. Алесь, да ты хоть меня слышишь?
Куреня с шумом выдохнул полной грудью!
— Слышу. И вот на этом месте, когда гадюка пускает свой змеиный яд — яд подкупа, я еле-еле сдерживаюсь... И сегодня, как видишь, сорвался.— Алесь, закусив губу, отошел к окну и, чуточку передохнув, оттуда более тихо продолжал:
— А теперь, Миша, боюсь, как бы начальство меня не махнуло совсем из погранвойск.
— Что ты, пограничник, раньше времени с ума сходишь? — Савченко по-дружески потряс его за плечи.— Не махнет. Только ты перед командиром роты не ерепенься. Сейчас он у себя. Иди помой физиономию, а то она у тебя, как спьяна, красная, и сейчас же к нему ступай.
— Сержант Куреня, доложите обязанности и права контролера и старшего контролера КПП! — комроты в упор смотрел на него. Этот взгляд не предвещал ничего хорошего.
Алесь подробно рассказал все, что по этому поводу предписывало наставление.
— Вот видите, какая у контролера власть! Так что совеем не следует к нарушителям применять грубость, какую вы позволили себе при досмотре с датчанином. Спокойно бы положили порнографическую колоду карт на стол, вызвали бы старшего контролера, а дальше пошло бы все своим чередом. А так швырнули, и — чэпэ! В нашем деле, сержант, требуется выдержка и к тому же — большая! И это зарубите себе на носу.
— Ясно, товарищ майор. Только прошу вас — не отчисляйте меня...
— Не отчислять? — еще строже насупился командир роты.— А как же иначе с вами поступить? — встал он и заходил за столом.— В мае француженку толкнули, да так, что она аж рухнула на диван и чуть стенку не проломила...
От этих слов горькая обида охватила Алеся, и он вопреки субординации выкрикнул:
— Не толкал я ее, товарищ майор, не толкал. Она сама, сама грохнулась. Вот честное комсомольское, я ее не трогал...
Командир роты прервал его, стуча карандашом по столу:
— Вот видите, даже со мной ведете себя невыдержанно.
— Простите, товарищ майор, это последний раз. Больше не будет.— Алесь глотнул воздуха.— Еще раз прошу вас — не откомандировывайте меня.
— Это будет решать командование батальона. А пока что я лишаю вас увольнения в город.
Алесь чуть было не вскрикнул: «Товарищ майор, любое наказание, только не это!» Но, опустив руки по швам, покорно ответил:
— Слушаюсь, неувольнение в город. Разрешите идти?
— Идите,— кивнул головой майор.
На другой день ровно в одиннадцать Аксана появилась на вокзале и, в ожидании Алеся, села в условленном месте — на красный диван, как раз против книжного ларька. Но прошло четверть часа, а Алеся все нет и нет. Вспыхнула досада: «Уходи!» А влюбленное сердце выстукивало наперекор: «Погоди, погоди...» И девушка сидела. Увидев в главном проходе пограничника, она было поднялась навстречу, но застеснялась.
Пограничник, встретив ее взгляд, подошел сам;
— Вы Аксана? Ждете Алеся Куреню?
— Да. Что с ним? — с тревогой прозвучал ее голос.
— С ним? — пограничник уклонился от ответа.— Ничего особенного. Он просил вам передать, что сегодня из-за службы прийти не может.
— Как же теперь быть? — словно про себя промолвила Аксана, сердцем чуя, что с Алесем произошло что-то недоброе. И она загорелась неудержимым желанием повидаться с ним сегодня же, сейчас. Но как? Ее глаза явно просили помочь.
— Я приехала из колхоза «Пограничник» и сегодня же еду обратно,— грустно звучали слова Аксаны.— И мне во что бы то ни стало надо увидеть Алеся...
Грустное настроение девушки подкупило пограничника, и он посоветовал ей:
— А вы поезжайте к нему.
— К нему? — радостно посмотрела на него Аксана.— А пропустят?
— Сегодня же воскресенье. Родительский день,— улыбнулся он.— Так что не теряйте времени, садитесь на автобус и летите. Успеете еще до обеда увидеться с ним. Паспорт с собой?
— С собой.
— В проходной предъявите паспорт, скажете, что из колхоза «Пограничник» и идете к брату.
Аксана так и сделала. И в начале первого они с Алесем уже сидели в укромном уголке фойе клуба.
И, как Алесь ни крепился, чтобы не проговориться, все же она выпытала у него причину грусти.
...— Не выдержал и запустил колоду ему в харю,— шептал Алесь, до боли сжимая пальцы любимой.— Только ты, Аксана, об этом никому ни гу-гу!
— Что ты, дорогой. Да разве можно? — «Дорогой» с ее уст слетело впервые и так, как будто бы она клялась ему в верности навсегда.
— Спасибо тебе, Аксана.— Алесь еще крепче сжал ее пальцы.— Скажи, только не тая,— ты меня осуждаешь?
— Тебя осуждать? За что? Наоборот, За это я тебя еще больше полюбила.
— Куреня! Чертушка! Я всю казарму обежал, ища тебя,— с порога выкрикнул дежурный.— На носках к комбату!
— Ну, Аксана, прощай.— Алесь протянул ей руку. Но Аксана не приняла ее,
— Иди. Ни пуха ни пера! Я буду здесь тебя ждать.— Проводив Алеся взором, Аксана села на уголок, собралась в комок, полная волнения и тревоги. Минуты ожидания казались ей вечностью. Нервы настолько были напряжены, что она при каждом звуке шагов вставала, готовая броситься навстречу. И наконец послышались знакомые торопливые шаги, и в дверях — Алесь. Аксана бросилась к нему:
— Ну как?
— Все, милая, в порядке.— Алесь взял ее под локоть, провел в тот же уголок, там посадил ее на стул и сам опустился с ней рядом.— Прочесали так, что аж под подметками мокро стало... Но оставили здесь.
— Здесь? — радостно прозвучал голос Аксаны.— И она, обвив руками шею Алеся, жарко поцеловала его.
"Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе... и тем кто сделал к ней первой шаг..."
- pogranec
- Администратор
- Сообщения: 3389
- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38
- место службы: Республика Беларусь
- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с
- Контактная информация:
Re: Всегда на страже (очерки, рассказы, повести)
АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВСКИЙ
ГДЕ КОМУ ЖИТЬ...
Маленькая повесть
Живет он в Хабаровске. И зовут его теперь Владимир Иванович, и только изредка — полковник Черепанов. Он уже привык к гражданке, ушел в запас несколько лет назад, и форма полковничья, как полевая, так и парадная, висит сейчас в шкафу и довольно сильно попахивает нафталином.
Ходит Владимир Иванович по городу в длинном пальто или в таком же длинном плаще и шапку носит обычную, гражданскую, в ответ на приветствия знакомых, как гражданских, так и военных, даже не пытается поднять руку к виску, а только кивает головой. Подолгу прогуливается, не любит сидеть на месте. В движении как-то лучше дышится, лучше думается и не так медленно тянется время, которого все же многовато, как ни занимайся разными общественными делами.
Думать есть о чем, хоть целыми часами думай; вспомнить есть о чем, хоть целыми днями вспоминай...
Да если бы только днями! А то частенько бывает и такое, что всю ночь глаз не сомкнешь. Если же наконец, и одолеет под утро дремота, словно впадешь в забытье, то все равно в голове роятся мысли, а перед глазами встают давно знакомые люди, товарищи, друзья, соратники по совместной борьбе, по совместной службе. Сколько их было? Сколько осталось?.. Годы-то бегут, бегут...
Немало лет прошло после войны. За это время почти ни с кем из первых фронтовиков, из тех, кто остался в живых, не довелось встретиться. А они — свидетели невозвратимой и незабываемой юности, хотя временами и чересчур трудной, трагической.
...Получив звание младшего лейтенанта, Черепанов прибыл на западную границу. И сразу же доложил о своем прибытии начальнику заставы. Тогда еще было мирное время, и свободные от дежурства пограничники иной раз вечерами гуляли с местными девушками. А Владимиру, недавнему выпускнику военного училища, казалось, что враги так и лезут на границу каждую минуту и что место каждого пограничника — только на заставе.
Черепанова назначили политруком погранзаставы.
...В первое ночное дежурство почти над самой головой политрука вдруг запел соловей. Жутким морозом обдало все тело, захотелось спугнуть соловья, швырнуть что-нибудь в то место, где он поет. А может это и не он — божья птичка, может, это враг подает такой сигнал?
Неслышно к Черепанову приблизился пограничник третьего года службы, осторожно притаился возле росистого ольхового куста. На пограничнике маскхалат такого же цвета, как и этот куст, вблизи даже и не отличишь.
— Вот он! — тихо прошептал пограничник и показал рукой ка ольховый куст, высокий и густой.
«Кто?» — хотел было спросить Черепанов, но не решился.
— Тут его гнездо,— уточнил пограничник. — Однажды днем я заметил.
— Чье? — настороженно спросил Черепанов.
Пограничник спокойно продолжал свой тихий, доверительный рассказ о соловьях:
— Самка сейчас в гнезде сидит, птенцов высиживает, а он поет без умолку, чтоб ей скучно не было. Вот так они вдвоем деток своих ожидают.
— Из-за соловьев мы ничего другого не услышим,— не сумел спрятать тревоги Черепанов.
— Услышим! — уверенно сказал пограничник.— Все, что здесь не наше, не от самой природы,— я сразу услышу и отличу. Я уже все живое и неживое здесь знаю.
Когда соловей на миг притих, на реке, что недалеко отсюда, послышался всплеск, потом еще и еще. Черепанов вздрогнул, повернул голову в ту сторону: что это может быть?
— Это щука,— спокойно заметил пограничник.— Развелось их тут, шныряют по ночам, как зверье, других рыб глотают. Выловить бы этих жадюг, так нельзя — пограничная река.
— А если кто будет плыть по реке или идти по перемелу? — интересовался Черепанов.— Как тогда?.. Отличишь человека от щуки?
— А как же? — подтвердил пограничник.— Когда кто влазит в воду или плывет, то совсем иной плеск. Да и отмели здесь такой нет, где можно было бы реку перейти. Мелко лишь напротив дуба.
— Какого? Тут дубов много.
— Есть один дуб, лет двести, может, ему, втроем не обхватишь,— сказал пограничник.— Дупло в нем — человеку молено спрятаться. Так вот, как-то раз ночью аист с него взлетел, над гнездом своим стал кружиться. Тревогу тогда у нас подняли, но все напрасно: аист, видать, с аистихой своей не поладил.
Настоящая тревога настигла Черепанова в то время, когда он ее совершенно не ожидал. На заставу пришли шефы из соседнего колхоза, и политрук читал им лекцию о неприступности наших границ. Нарушитель появился не с вражьей стороны, а с нашей, и на след его напали не пограничные собаки, а колхозные, обученные активистами по охране границы.
...Политруком довелось побыть всего лишь один год, потом начальника заставы перевели в погранотряд, а Черепанову добавили еще один кубик в петлицу и приказали принять заставу. К этому времени он уже знал все уголки и тропки не только на территории своей заставы. По службе и во внеслужебное время ему часто приходилось бывать и на соседних заставах, так что и там все было исхожено и изведано. Открыл юноша-лейтенант и одну сокровенную тропку: она вела в ближайшую деревушку, где жила синеокая учительница начальной школы. Не часто приходилось ходить по этой тропке, но когда выпадала такая минута, то она была светлая, даже и в самую темную ночь...
Чем дальше, тем все роднее и роднее становились для него эти места, и временами начинало казаться, что во всей стране нет такого красивого и близкого сердцу уголка с роскошным разнолесьем, с душистым чабрецом и полевой мятой, с вековым дубом, который уже и не представляется без постоянной, не раз подновленной, как хата у хорошего хозяина, буслянки . Вряд ли есть где такая речка, всегда ласково-журчащая, бесконечно щедрая для разного рода живности. И, наверно, во всем мире нет такой начальной школы, где работала бы такая очаровательная учительница с незабываемым именем — Катюша. Любимая, неотъемлемая от сердца пограничная полоса, она многое потеряла бы, не будь тут только ее, только одной этой девушки!
...Их свадьба была назначена на самый длинный день в году. Но именно в тот день, незадолго до рассвета, над дубом поднялся аист. Поднялся и тревожно заклекотал. В такую раннюю пору аист никогда не поднимался. И вряд ли виновницей этого была теперь аистиха.
Со сторожевой вышки, которая была, неподалеку от дуба и ночью напоминала буслянку, прилетело донесение. Часовой докладывал, что по ту сторону границы, возле польского монастыря, замечено необычное людское движение, и взлетели со своих гнезд аисты и начали перекликаться с нашим аистом. Так они иногда делали и раньше, но днем, и клекот их был тогда спокойный, по-настоящему дружеский: с одного же болота кормились, из одной речки пили воду. Теперь они клекотали встревоженно и отчаянно.
Следом за донесением с вышки пришло сообщение от сержанта Новикова, который в эту ночь нес службу около дуба. Это тот самый пограничник, с которым Черепанову довелось быть в своем первом наряде. Новиков докладывал, что невиданное доселе скопление людей подошло к реке в том месте, где была отмель.
На заставе объявили боевую тревогу. Никто еще не знал, что начиналась война, но по законам охраны границы Черепанов отдал приказ наряду Новикова открыть огонь, как только враг попытается перейти реку. Сам он с группой бойцов занял оборону в наиболее опасном месте. Это был правый фланг заставы, а на левый ушел младший лейтенант Храмцов, Жена Храмцова с ребенком осталась в небольшом домике комсостава. Осталась одна, так как одна и была в этом гарнизончике: начальник заставы не успел жениться, а жена старшины сверхсрочной службы Тимощика недавно уехала отсюда.
Женщина не вставала, пока не послышались выстрелы: почти каждую неделю на заставе объявлялась тревога, а потом муж приходил домой, улыбался и спрашивал, готов ли завтрак.
На этот раз Храмцов прибежал взволнованный, очень бледный и растерянный.
— Быстрей собирайся! — закричал он жене, увидев, что та еще спросонья не знает, за что хвататься. — И малыша собирай!
Черепанов лежал в обороне и с минуты на минуту ждал событий, о которых еще ничего и сам не знал. После тревожных донесений с постов звонил в погранотряд, но там только и сказали, что надо быть наготове. Но это и так было известно.
Пряно пахла полевая мята, придавленная локтями. Было еще темно. Ничего подозрительного нельзя было заметить, даже в бинокль. Только по памяти знал, что неподалеку течет тихая, спокойная река, на берегах которой местами растут плакучие вербы, а в низинах и затонах — аир. На троицын день приходили на заставу девчата из окрестных сел, просили разрешения нарвать аиру, чтоб по старому обычаю натыкать его в хатах и в сенях под потолок, да еще над крыльцом и над окнами.
...Может и теперь в их хатах торчит тот аир, пожелтевший, сухой, но все равно ароматный, пахучий...
Известно было Черепанову и то, что неподалеку отсюда, справа, ка границе сооружены надежные укрепления. Там пока что нет наших войск, но, если возникнет в этом необходимость, они будут. И не стоит излишне тревожиться: если туда еще не пришло подкрепление, то никакой опасности пока что нет.
В минуты таких раздумий хотелось повернуться в противоположную сторону, вглядеться в тихий, еще сонный тыл. Спиной, своим затылком ощущал лейтенант, что где-то вот тут, у самых его ног, начиналась та заветная тропинка, которая вела к любимой. Холодела душа, кружилось в голове, когда вдруг возникала мысль, что, возможно, уже больше никогда и не придется идти, бежать, либо мчаться на своем скакуне по этой тропинке...
До чего только могут довести такие мысли! Прочь их, прочь! Особенно теперь, в эти трудные, неспокойные минуты! На этом участке границы возможны провокации... Мы готовы ко всему... Но граница останется границей. И тропинка эта никогда не зарастет полынь-травой. Не исчезнет она, не сгладится, не сравняется...
...Катюша, наверно, еще спит... Длинные, расплетенные на ночь волосы мягким шелком рассыпались по подушке. Может только недавно и заснула, ждала, волновалась, тревожилась перед свадьбой...
А рвануться к ней ему, начальнику заставы, было рискованно, так как все время чувствовалось приближение чего-то тяжелого и ужасного. И оно угнетало и приглушало самые радостные и счастливые чувства...
...Она, должно быть, уже решила отложить свадьбу на следующий выходной день. Это еще ничего, если на следующий. А может, и совсем обиделась и больше не верит ему?.. Как бы ей сообщить, как передать, что сейчас происходит на границе, что творится у него на душе...
...Спи, девушка, и лучше ничего не знай! Спи аж до восхода солнышка, до того первого луча, что заглянет в твое окно. Пускай сон твой будет спокойный и крепкий, как в самое счастливое время твоей жизни. А мы тут постоим за этот покой...
До слуха долетело клекотание аиста, отчаянно-тревожное,— аист как бы подавал сигнал — сначала резкий, громкий, а потом приглушенный, отдаленный. Видно, хозяин дуба-великана, делая большие круги, все еще летал над своим гнездом, где оставались бескрылые, беспомощные аистята и аистиха-хозяйка ласково прикрывала их своим живым пухом. Временами он подлетал к месту обороны, а то и на ту сторону границы; летал и клекотал, будто оповещал тревогу, будто искал спасения у пограничников, к которым привык, с которыми подружился.
Почему аист так встревожился ночью, что прервало его спокойный семейный сон, что заставило подняться из буслянки? Этого Черепанов не мог разгадать, хотя уже считал себя опытным пограничником. Когда еще раз приблизилось аистиное клекотание, начальник заставы привстал и, стоя на коленях, попытался навести бинокль на аиста. В этот момент громкий клекот заглушила пулеметная очередь, а по лесу и зарослям шугануло острое, свистящее эхо. Казалось, что оно срывало с травы росу и разбрызгивало ее вокруг, с деревьев — листья и разносило их, рассыпало по земле. Черепанов понял, что открыл огонь наряд Новикова, который дежурил возле дуба. Значит, произошло что-то опасное, ошибиться этот человек не может.
На противоположной стороне реки пока что было тихо, но Черепанов подал команду своему отряду подойти ближе к берегу и, когда двинулся сам, чуть ли не передним, то в это время встретил Храмцова, который бежал навстречу. Младший лейтенант был до того встревожен, что ничего толкового от него нельзя было и ожидать, но все же Черепанов спросил:
— Что такое там у тебя?
— По-моему, началась война! — не останавливаясь, ответил Храмцов и помчался дальше.
— Да брось ты! — крикнул Черепанов вдогонку.
Но эти слова не долетели до Храмцова, не услышал их и сам Черепанов, так как в этот момент неподалеку от них так громыхнуло, что содрогнулась земля, несколько деревьев и кустов взлетели корнями вверх, а потом, падая, стали ломать, крошить сучья, свои и чужие, подминать молодняк. Казалось, что вся пограничная полоса вдруг задрожала, заходила ходуном, приподнялась и начала рушиться, заваливая деревьями все проходы, тропки и даже реку. Одним взрывом будто было уничтожено все, и трескучий, оглушительный гул не только не утихал, а, казалось, все больше нарастал и охватывал все вокруг. Уже не слышно было даже самой громкой команды; от непривычки к такой обстановке, от внезапности леденело все внутри, звенело в ушах, деревенели ноги, руки инстинктивно искали поглубже выемку в земле и прикрывали голову и лицо. Прошли какие-то мгновения, пока Черепанов понял, что поднялась вражеская авиация, что из-за реки начали обстреливать из пушек и минометов пограничную зону. Понял начальник заставы и то, во что еще минуту назад не мог поверить,— действительно началась война! Возле него рвались мины и снаряды, под ним дрожала и стонала земля, но больше всего захолодело сердце, когда взрывы послышались и в тылу заставы, там, где была подшефная пограничная деревня, где размещалась такая близкая его душе начальная школа. Какое-то время Черепанов не мог преодолеть охватившее его страшное ощущение внезапной гибели всего, что создано на земле. А если это так, то, может быть, и самому не стоит жить, не стоит бороться...
Но такое состояние быстро исчезло. В коротком промежутке между взрывами он услышал, как опять застрекотал пулемет Новикова. Черепанов закричал изо всех сил, подавая боевую команду. В голове его звучала воинская уверенность и решимость: застава на самом краю земли, но она на своей, советской, родной земле. Поэтому ни одна вражеская нога не должна студить на эту землю. Самолеты — это еще не все, это еще не земля, а воздух. Вот-вот наперерез вражеским ринутся наши самолеты... А вот земля... Ни одной пяди своей земли!..
И он решительно вскочил и, выпрямившись во весь рост, с командным кличем и призывными жестами, подался вперед, к реке. Убежден был в одном: враг и на этом участке попытается переправиться через реку, как и там, где стоит наряд Новикова, Но там отмель, можно идти вброд. А тут вброд не перейдешь, надо переплывать, на чем-то переправляться. Новиков удерживает отмель, а тут мы во что бы то ни стало удержим, убережем плес, уничтожим все, что бы там ни появилось: вражеские челны, лодки, хотя бы даже и понтоны.
Тихая речка текла, как и прежде, спокойно, на ней уже хорошо был заметен отблеск утренней зари. Но ни на чистом, подернутом предрассветным серебром, плесе, ни на берегах с густым аиром и камышом ничего и никого не было видно. Пулемет Новикова тоже затих, временно или, может, потому, что отбил врага? Гул самолетов отдалился, и снова стал слышен аистиный клекот, еще более сильный, взволнованный. Черепанов отвел глаза от реки, вгляделся на подсиненное близким рассветом небо и увидел там целую стаю аистов. Они, наверно, слетелись отовсюду, в тревоге покинув свои гнезда, своих аистят. Птицы кружились над приграничным лесом, над рекой, над белым монастырем, видневшимся по ту сторону реки. Некоторые долетали до того места, где в напряженном ожидании лежали Черепанов и его бойцы. Оказавшись на большом отдалении от своих гнезд, аисты вдруг замолкали, даже не шевелили крыльями, и плыли над приграничьем тихо и осторожно, будто выслеживая, высматривая, что происходит на земле.
Черепанову начинало казаться, что вот пройдет еще какое-то время и аисты перестанут тревожиться, возвратятся в свои гнезда. Может, что произошло — временное, случайное... Новиков отбил какую-то провокацию. И самолеты вражеские далеко не ушли. Не может быть, чтобы вдруг война... Вчера привезли на заставу еще «теплый» номер пограничной газеты, там писалось о летней спартакиаде в войсках.
Сердце сильно билось, порой неудержимо трепетало, резко и остро стучало в висках. Нет, нет, это не война! Не может быть, чтоб это была война!..
В ту же минуту прибежал Храмцов и доложил, что немцы уже в деревне, в тылу заставы.
То, что произошло потом, сохранилось в памяти Черепанова на всю жизнь. Бывает, что некоторые незабываемые эпизоды оживают во сне, и тогда наступает тревожная тоскливая ночь. Немало времени потребуется, пока успокоятся холодная дрожь в теле, тревожный и затяжной звон в ушах. Но сон уже не приходит, тяжелые, мучительные, неотступные воспоминания нарастают, порой всплывает в памяти и то, о чем и не помнилось раньше. Тогда иной раз кажется, что это вовсе и не он был там, а кто-то другой, может быть, более смелый, более решительный и отчаянный.
Разве это он, сам Черепанов, поднял, повернул назад всю свою боевую группу и побежал впереди всех... Ему под ноги упал подстреленный аист... Наверное, тот самый, что вещал тревогу... Хозяин векового дуба...
Как подстрелили враги честного вестуна, неутомимого защитника границы? Может, снизу, а может, сверху, так как вражеские самолеты пошли вскоре снова. На земле аист казался очень большим, намного большим, чем в воздухе или даже на буслянке. Широко распластанные крылья еще пытались сделать взмах, поднять птицу в воздух, но ноги уже не держали тело, не могли дать необходимую опору, пружинистый подскок. Черепанов подхватил аиста на руки и почувствовал на ладонях теплую кровь. В тот же момент ощутил пальцами, как резко и прощально застучало сердце аиста... Застучало и стихло... Куда же теперь деть мертвого аиста?..
Подумалось тогда об этом или не подумалось? Может, только теперь возникают такие мысли?..
За ним бежали пограничники... У них карабины, ручные пулеметы, У него самого — только наган... Какое оружие у немцев? Думалось ли тогда об этом?..
...Возле небольшого придорожного бугорка лежит богатырь-пограничник... Новые петлицы на расстегнутом воротнике свежо зеленеют и почти сливаются с травой, ствол пулемета торчит вверх. Пограничник своими плечами занял чуть ли не весь бугор, жилистые окровавленные руки раскинуты, как в крепком непробудном сне.
Возле пограничника пересеченный пополам немец-оккупант, голова накрыта огромной железной каской. Вот он, самый безжалостный, вероломный враг!..
И тут Черепанов заметил, что в правой руке богатыря-пограничника оголенная шашка... Значит, он пошел врукопашную, когда его пулемет заглох...
У него, у начальника заставы, тоже есть шашка... Это кроме нагана, кроме двух гранат, подвешенных на поясе. Можно идти и врукопашную!..
...Пока бежали, попадались убитые фашисты,— должно быть, их уложил пограничник-богатырь. Как они сюда прошли?.. Там же Новиков возле дуба... С таким же ручным пулеметом, с такой же шашкой и сам такой же могучий, как и тот, что погиб первым, но пока что неизвестным героем.
...В тылу группы послышалась пулеметная очередь, а потом и одиночные винтовочные выстрелы. Диски, видимо, кончились. А может подать их некому. Там же у Новикова был второй номер. Был, но — есть ли теперь?..
...В зарослях мелькнула жена Храмцова с ребенком на руках. Потом и сам Храмцов: значит, и его группа поблизости.
...Последние кусты, последние деревья заповедной территории... Дальше — колхозные поля, потом деревенские огороды. Открытое место... Но это же свои поля, свои огороды!..
Последний рубеж для атаки, маленькая передышка в зарослях. Трудновато и самому расставаться с привычными, такими близкими сердцу и надежными местами, и все пограничники залегли словно бы и не было команды.
...Перед глазами — давно распаханное, красочное от цветов и злаков поле, затянутое дымом пожара в деревне; на поле немцев не видно. Значит, они за околицей деревни, а может, и дальше. Их надо нагнать и уничтожить: может, только тут они и прорвались. Новиков задержит тех, а мы настигнем этих...
Дым стелется по земле, достигает кустов. За ним приплывает запах, не такой горький, как там, в лесу, от взрывов, но все же неприятный, так как не из труб этот дым, не домашний... Плывет этот дым от горящих хат, от большой беды людской. И все больше густеет, все больше ширится по полю.
Этот дымовой заслон может помочь проскочить открытое место и вплотную приблизиться к немцам. Только бы нагнать их, только бы перехватить!..
...Храмцов подбежал почему-то без фуражки. Рыжеватые волосы вздыбились, веснушчатый нос топорщится вверх. Весь зелено-юный, хоть и женатый.
— Где фуражка? — не сдержался Черепанов.
Храмцов левой ладонью провел по волосам, очевидно, он сам не чувствовал, что на голове нет фуражки. Потом этой же рукой махнул в ту сторону, откуда прибежал: правую руку держал наготове, в ней был наган.
— Веди левый фланг! — приказал ему Черепанов.
— Куда вести? — переспросил Храмцов.
— Как куда? — начальник заставы только теперь заметил в безбровых глазах своего подчиненного безнадежность и крикнул так, что услышали даже и те пограничники, что лежали дальше.
— На нарушителей границы! Разве не ясно?
— Это не то, что ты думаешь,— вглядываясь в задымленное поле, сказал Храмцов.— Это — война, и мы уже в тылу врага.
— Выполняй приказ! — решительно повторил Черепанов и подал знак всем двигаться вперед. Сам поднялся первым.
...Немцев настигли возле деревни... Настигли и открыли огонь из всего огнестрельного оружия, которое у них было. Черепанов готов был подать команду и на рукопашную — шашек и штыков хватало. Никакой враг не выдержал бы такой яростной русской атаки — это он знал из истории прошлых войн, но совершенно неожиданно для себя увидел возле деревенских плетней два немецких танка. «Как они очутились тут, когда и где перешли границу?»
Танки развернулись на внезапные выстрелы и открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Разрывные пули косили, выжигали траву, заросли, оглушали лязгом пограничников и создавалось впечатление, будто стрельба идет со всех сторон. В ту же минуту зловеще и страшно зашуршали мины и начали рваться одна за другой, одна за другой...
...Даже в этом несмолкаемом гуле вдруг послышался пронзительный и отчаянный крик женщины. Скачала крик, потом, будто болезненный, удивленный возглас, а затем плач, тяжелый, надрывный. Черепанов узнал голос жены Храмцова: единственную женщину на заставе сразу и всюду узнавали все — по говору, по походке, по одежде и по многим другим, еле уловимым, приметам.
Когда затихла, как бы захлебнулась слезами, женщина, заплакал ребенок. Этот плач, резкий, сильный, требовательный, пробивался сквозь все громы и шумы, пронизывал все вокруг, проникал в сердце каждому, волновал, тревожил, пугал, взывал к милосердию, защите и помощи. Наступил миг, когда ничего другого и не было слышно, кроме этого детского плача: даже немецкие пулеметы и минометы замолчали, и по всей задымленной окрестности разносился только этот детский голос.
...Плач единственного на заставе ребенка, все перекрывающий голос человека, который еще только и умел, что плакать, остался в ушах Черепанова надолго. Этот плач вдруг на какой-то момент слился с близким зловещим визгом мины и потом начал звенеть, сверлить все внутри, затмевать глаза, затягивая в беспокойную мрачно-бурливую бездну.
ГДЕ КОМУ ЖИТЬ...
Маленькая повесть
Живет он в Хабаровске. И зовут его теперь Владимир Иванович, и только изредка — полковник Черепанов. Он уже привык к гражданке, ушел в запас несколько лет назад, и форма полковничья, как полевая, так и парадная, висит сейчас в шкафу и довольно сильно попахивает нафталином.
Ходит Владимир Иванович по городу в длинном пальто или в таком же длинном плаще и шапку носит обычную, гражданскую, в ответ на приветствия знакомых, как гражданских, так и военных, даже не пытается поднять руку к виску, а только кивает головой. Подолгу прогуливается, не любит сидеть на месте. В движении как-то лучше дышится, лучше думается и не так медленно тянется время, которого все же многовато, как ни занимайся разными общественными делами.
Думать есть о чем, хоть целыми часами думай; вспомнить есть о чем, хоть целыми днями вспоминай...
Да если бы только днями! А то частенько бывает и такое, что всю ночь глаз не сомкнешь. Если же наконец, и одолеет под утро дремота, словно впадешь в забытье, то все равно в голове роятся мысли, а перед глазами встают давно знакомые люди, товарищи, друзья, соратники по совместной борьбе, по совместной службе. Сколько их было? Сколько осталось?.. Годы-то бегут, бегут...
Немало лет прошло после войны. За это время почти ни с кем из первых фронтовиков, из тех, кто остался в живых, не довелось встретиться. А они — свидетели невозвратимой и незабываемой юности, хотя временами и чересчур трудной, трагической.
...Получив звание младшего лейтенанта, Черепанов прибыл на западную границу. И сразу же доложил о своем прибытии начальнику заставы. Тогда еще было мирное время, и свободные от дежурства пограничники иной раз вечерами гуляли с местными девушками. А Владимиру, недавнему выпускнику военного училища, казалось, что враги так и лезут на границу каждую минуту и что место каждого пограничника — только на заставе.
Черепанова назначили политруком погранзаставы.
...В первое ночное дежурство почти над самой головой политрука вдруг запел соловей. Жутким морозом обдало все тело, захотелось спугнуть соловья, швырнуть что-нибудь в то место, где он поет. А может это и не он — божья птичка, может, это враг подает такой сигнал?
Неслышно к Черепанову приблизился пограничник третьего года службы, осторожно притаился возле росистого ольхового куста. На пограничнике маскхалат такого же цвета, как и этот куст, вблизи даже и не отличишь.
— Вот он! — тихо прошептал пограничник и показал рукой ка ольховый куст, высокий и густой.
«Кто?» — хотел было спросить Черепанов, но не решился.
— Тут его гнездо,— уточнил пограничник. — Однажды днем я заметил.
— Чье? — настороженно спросил Черепанов.
Пограничник спокойно продолжал свой тихий, доверительный рассказ о соловьях:
— Самка сейчас в гнезде сидит, птенцов высиживает, а он поет без умолку, чтоб ей скучно не было. Вот так они вдвоем деток своих ожидают.
— Из-за соловьев мы ничего другого не услышим,— не сумел спрятать тревоги Черепанов.
— Услышим! — уверенно сказал пограничник.— Все, что здесь не наше, не от самой природы,— я сразу услышу и отличу. Я уже все живое и неживое здесь знаю.
Когда соловей на миг притих, на реке, что недалеко отсюда, послышался всплеск, потом еще и еще. Черепанов вздрогнул, повернул голову в ту сторону: что это может быть?
— Это щука,— спокойно заметил пограничник.— Развелось их тут, шныряют по ночам, как зверье, других рыб глотают. Выловить бы этих жадюг, так нельзя — пограничная река.
— А если кто будет плыть по реке или идти по перемелу? — интересовался Черепанов.— Как тогда?.. Отличишь человека от щуки?
— А как же? — подтвердил пограничник.— Когда кто влазит в воду или плывет, то совсем иной плеск. Да и отмели здесь такой нет, где можно было бы реку перейти. Мелко лишь напротив дуба.
— Какого? Тут дубов много.
— Есть один дуб, лет двести, может, ему, втроем не обхватишь,— сказал пограничник.— Дупло в нем — человеку молено спрятаться. Так вот, как-то раз ночью аист с него взлетел, над гнездом своим стал кружиться. Тревогу тогда у нас подняли, но все напрасно: аист, видать, с аистихой своей не поладил.
Настоящая тревога настигла Черепанова в то время, когда он ее совершенно не ожидал. На заставу пришли шефы из соседнего колхоза, и политрук читал им лекцию о неприступности наших границ. Нарушитель появился не с вражьей стороны, а с нашей, и на след его напали не пограничные собаки, а колхозные, обученные активистами по охране границы.
...Политруком довелось побыть всего лишь один год, потом начальника заставы перевели в погранотряд, а Черепанову добавили еще один кубик в петлицу и приказали принять заставу. К этому времени он уже знал все уголки и тропки не только на территории своей заставы. По службе и во внеслужебное время ему часто приходилось бывать и на соседних заставах, так что и там все было исхожено и изведано. Открыл юноша-лейтенант и одну сокровенную тропку: она вела в ближайшую деревушку, где жила синеокая учительница начальной школы. Не часто приходилось ходить по этой тропке, но когда выпадала такая минута, то она была светлая, даже и в самую темную ночь...
Чем дальше, тем все роднее и роднее становились для него эти места, и временами начинало казаться, что во всей стране нет такого красивого и близкого сердцу уголка с роскошным разнолесьем, с душистым чабрецом и полевой мятой, с вековым дубом, который уже и не представляется без постоянной, не раз подновленной, как хата у хорошего хозяина, буслянки . Вряд ли есть где такая речка, всегда ласково-журчащая, бесконечно щедрая для разного рода живности. И, наверно, во всем мире нет такой начальной школы, где работала бы такая очаровательная учительница с незабываемым именем — Катюша. Любимая, неотъемлемая от сердца пограничная полоса, она многое потеряла бы, не будь тут только ее, только одной этой девушки!
...Их свадьба была назначена на самый длинный день в году. Но именно в тот день, незадолго до рассвета, над дубом поднялся аист. Поднялся и тревожно заклекотал. В такую раннюю пору аист никогда не поднимался. И вряд ли виновницей этого была теперь аистиха.
Со сторожевой вышки, которая была, неподалеку от дуба и ночью напоминала буслянку, прилетело донесение. Часовой докладывал, что по ту сторону границы, возле польского монастыря, замечено необычное людское движение, и взлетели со своих гнезд аисты и начали перекликаться с нашим аистом. Так они иногда делали и раньше, но днем, и клекот их был тогда спокойный, по-настоящему дружеский: с одного же болота кормились, из одной речки пили воду. Теперь они клекотали встревоженно и отчаянно.
Следом за донесением с вышки пришло сообщение от сержанта Новикова, который в эту ночь нес службу около дуба. Это тот самый пограничник, с которым Черепанову довелось быть в своем первом наряде. Новиков докладывал, что невиданное доселе скопление людей подошло к реке в том месте, где была отмель.
На заставе объявили боевую тревогу. Никто еще не знал, что начиналась война, но по законам охраны границы Черепанов отдал приказ наряду Новикова открыть огонь, как только враг попытается перейти реку. Сам он с группой бойцов занял оборону в наиболее опасном месте. Это был правый фланг заставы, а на левый ушел младший лейтенант Храмцов, Жена Храмцова с ребенком осталась в небольшом домике комсостава. Осталась одна, так как одна и была в этом гарнизончике: начальник заставы не успел жениться, а жена старшины сверхсрочной службы Тимощика недавно уехала отсюда.
Женщина не вставала, пока не послышались выстрелы: почти каждую неделю на заставе объявлялась тревога, а потом муж приходил домой, улыбался и спрашивал, готов ли завтрак.
На этот раз Храмцов прибежал взволнованный, очень бледный и растерянный.
— Быстрей собирайся! — закричал он жене, увидев, что та еще спросонья не знает, за что хвататься. — И малыша собирай!
Черепанов лежал в обороне и с минуты на минуту ждал событий, о которых еще ничего и сам не знал. После тревожных донесений с постов звонил в погранотряд, но там только и сказали, что надо быть наготове. Но это и так было известно.
Пряно пахла полевая мята, придавленная локтями. Было еще темно. Ничего подозрительного нельзя было заметить, даже в бинокль. Только по памяти знал, что неподалеку течет тихая, спокойная река, на берегах которой местами растут плакучие вербы, а в низинах и затонах — аир. На троицын день приходили на заставу девчата из окрестных сел, просили разрешения нарвать аиру, чтоб по старому обычаю натыкать его в хатах и в сенях под потолок, да еще над крыльцом и над окнами.
...Может и теперь в их хатах торчит тот аир, пожелтевший, сухой, но все равно ароматный, пахучий...
Известно было Черепанову и то, что неподалеку отсюда, справа, ка границе сооружены надежные укрепления. Там пока что нет наших войск, но, если возникнет в этом необходимость, они будут. И не стоит излишне тревожиться: если туда еще не пришло подкрепление, то никакой опасности пока что нет.
В минуты таких раздумий хотелось повернуться в противоположную сторону, вглядеться в тихий, еще сонный тыл. Спиной, своим затылком ощущал лейтенант, что где-то вот тут, у самых его ног, начиналась та заветная тропинка, которая вела к любимой. Холодела душа, кружилось в голове, когда вдруг возникала мысль, что, возможно, уже больше никогда и не придется идти, бежать, либо мчаться на своем скакуне по этой тропинке...
До чего только могут довести такие мысли! Прочь их, прочь! Особенно теперь, в эти трудные, неспокойные минуты! На этом участке границы возможны провокации... Мы готовы ко всему... Но граница останется границей. И тропинка эта никогда не зарастет полынь-травой. Не исчезнет она, не сгладится, не сравняется...
...Катюша, наверно, еще спит... Длинные, расплетенные на ночь волосы мягким шелком рассыпались по подушке. Может только недавно и заснула, ждала, волновалась, тревожилась перед свадьбой...
А рвануться к ней ему, начальнику заставы, было рискованно, так как все время чувствовалось приближение чего-то тяжелого и ужасного. И оно угнетало и приглушало самые радостные и счастливые чувства...
...Она, должно быть, уже решила отложить свадьбу на следующий выходной день. Это еще ничего, если на следующий. А может, и совсем обиделась и больше не верит ему?.. Как бы ей сообщить, как передать, что сейчас происходит на границе, что творится у него на душе...
...Спи, девушка, и лучше ничего не знай! Спи аж до восхода солнышка, до того первого луча, что заглянет в твое окно. Пускай сон твой будет спокойный и крепкий, как в самое счастливое время твоей жизни. А мы тут постоим за этот покой...
До слуха долетело клекотание аиста, отчаянно-тревожное,— аист как бы подавал сигнал — сначала резкий, громкий, а потом приглушенный, отдаленный. Видно, хозяин дуба-великана, делая большие круги, все еще летал над своим гнездом, где оставались бескрылые, беспомощные аистята и аистиха-хозяйка ласково прикрывала их своим живым пухом. Временами он подлетал к месту обороны, а то и на ту сторону границы; летал и клекотал, будто оповещал тревогу, будто искал спасения у пограничников, к которым привык, с которыми подружился.
Почему аист так встревожился ночью, что прервало его спокойный семейный сон, что заставило подняться из буслянки? Этого Черепанов не мог разгадать, хотя уже считал себя опытным пограничником. Когда еще раз приблизилось аистиное клекотание, начальник заставы привстал и, стоя на коленях, попытался навести бинокль на аиста. В этот момент громкий клекот заглушила пулеметная очередь, а по лесу и зарослям шугануло острое, свистящее эхо. Казалось, что оно срывало с травы росу и разбрызгивало ее вокруг, с деревьев — листья и разносило их, рассыпало по земле. Черепанов понял, что открыл огонь наряд Новикова, который дежурил возле дуба. Значит, произошло что-то опасное, ошибиться этот человек не может.
На противоположной стороне реки пока что было тихо, но Черепанов подал команду своему отряду подойти ближе к берегу и, когда двинулся сам, чуть ли не передним, то в это время встретил Храмцова, который бежал навстречу. Младший лейтенант был до того встревожен, что ничего толкового от него нельзя было и ожидать, но все же Черепанов спросил:
— Что такое там у тебя?
— По-моему, началась война! — не останавливаясь, ответил Храмцов и помчался дальше.
— Да брось ты! — крикнул Черепанов вдогонку.
Но эти слова не долетели до Храмцова, не услышал их и сам Черепанов, так как в этот момент неподалеку от них так громыхнуло, что содрогнулась земля, несколько деревьев и кустов взлетели корнями вверх, а потом, падая, стали ломать, крошить сучья, свои и чужие, подминать молодняк. Казалось, что вся пограничная полоса вдруг задрожала, заходила ходуном, приподнялась и начала рушиться, заваливая деревьями все проходы, тропки и даже реку. Одним взрывом будто было уничтожено все, и трескучий, оглушительный гул не только не утихал, а, казалось, все больше нарастал и охватывал все вокруг. Уже не слышно было даже самой громкой команды; от непривычки к такой обстановке, от внезапности леденело все внутри, звенело в ушах, деревенели ноги, руки инстинктивно искали поглубже выемку в земле и прикрывали голову и лицо. Прошли какие-то мгновения, пока Черепанов понял, что поднялась вражеская авиация, что из-за реки начали обстреливать из пушек и минометов пограничную зону. Понял начальник заставы и то, во что еще минуту назад не мог поверить,— действительно началась война! Возле него рвались мины и снаряды, под ним дрожала и стонала земля, но больше всего захолодело сердце, когда взрывы послышались и в тылу заставы, там, где была подшефная пограничная деревня, где размещалась такая близкая его душе начальная школа. Какое-то время Черепанов не мог преодолеть охватившее его страшное ощущение внезапной гибели всего, что создано на земле. А если это так, то, может быть, и самому не стоит жить, не стоит бороться...
Но такое состояние быстро исчезло. В коротком промежутке между взрывами он услышал, как опять застрекотал пулемет Новикова. Черепанов закричал изо всех сил, подавая боевую команду. В голове его звучала воинская уверенность и решимость: застава на самом краю земли, но она на своей, советской, родной земле. Поэтому ни одна вражеская нога не должна студить на эту землю. Самолеты — это еще не все, это еще не земля, а воздух. Вот-вот наперерез вражеским ринутся наши самолеты... А вот земля... Ни одной пяди своей земли!..
И он решительно вскочил и, выпрямившись во весь рост, с командным кличем и призывными жестами, подался вперед, к реке. Убежден был в одном: враг и на этом участке попытается переправиться через реку, как и там, где стоит наряд Новикова, Но там отмель, можно идти вброд. А тут вброд не перейдешь, надо переплывать, на чем-то переправляться. Новиков удерживает отмель, а тут мы во что бы то ни стало удержим, убережем плес, уничтожим все, что бы там ни появилось: вражеские челны, лодки, хотя бы даже и понтоны.
Тихая речка текла, как и прежде, спокойно, на ней уже хорошо был заметен отблеск утренней зари. Но ни на чистом, подернутом предрассветным серебром, плесе, ни на берегах с густым аиром и камышом ничего и никого не было видно. Пулемет Новикова тоже затих, временно или, может, потому, что отбил врага? Гул самолетов отдалился, и снова стал слышен аистиный клекот, еще более сильный, взволнованный. Черепанов отвел глаза от реки, вгляделся на подсиненное близким рассветом небо и увидел там целую стаю аистов. Они, наверно, слетелись отовсюду, в тревоге покинув свои гнезда, своих аистят. Птицы кружились над приграничным лесом, над рекой, над белым монастырем, видневшимся по ту сторону реки. Некоторые долетали до того места, где в напряженном ожидании лежали Черепанов и его бойцы. Оказавшись на большом отдалении от своих гнезд, аисты вдруг замолкали, даже не шевелили крыльями, и плыли над приграничьем тихо и осторожно, будто выслеживая, высматривая, что происходит на земле.
Черепанову начинало казаться, что вот пройдет еще какое-то время и аисты перестанут тревожиться, возвратятся в свои гнезда. Может, что произошло — временное, случайное... Новиков отбил какую-то провокацию. И самолеты вражеские далеко не ушли. Не может быть, чтобы вдруг война... Вчера привезли на заставу еще «теплый» номер пограничной газеты, там писалось о летней спартакиаде в войсках.
Сердце сильно билось, порой неудержимо трепетало, резко и остро стучало в висках. Нет, нет, это не война! Не может быть, чтоб это была война!..
В ту же минуту прибежал Храмцов и доложил, что немцы уже в деревне, в тылу заставы.
То, что произошло потом, сохранилось в памяти Черепанова на всю жизнь. Бывает, что некоторые незабываемые эпизоды оживают во сне, и тогда наступает тревожная тоскливая ночь. Немало времени потребуется, пока успокоятся холодная дрожь в теле, тревожный и затяжной звон в ушах. Но сон уже не приходит, тяжелые, мучительные, неотступные воспоминания нарастают, порой всплывает в памяти и то, о чем и не помнилось раньше. Тогда иной раз кажется, что это вовсе и не он был там, а кто-то другой, может быть, более смелый, более решительный и отчаянный.
Разве это он, сам Черепанов, поднял, повернул назад всю свою боевую группу и побежал впереди всех... Ему под ноги упал подстреленный аист... Наверное, тот самый, что вещал тревогу... Хозяин векового дуба...
Как подстрелили враги честного вестуна, неутомимого защитника границы? Может, снизу, а может, сверху, так как вражеские самолеты пошли вскоре снова. На земле аист казался очень большим, намного большим, чем в воздухе или даже на буслянке. Широко распластанные крылья еще пытались сделать взмах, поднять птицу в воздух, но ноги уже не держали тело, не могли дать необходимую опору, пружинистый подскок. Черепанов подхватил аиста на руки и почувствовал на ладонях теплую кровь. В тот же момент ощутил пальцами, как резко и прощально застучало сердце аиста... Застучало и стихло... Куда же теперь деть мертвого аиста?..
Подумалось тогда об этом или не подумалось? Может, только теперь возникают такие мысли?..
За ним бежали пограничники... У них карабины, ручные пулеметы, У него самого — только наган... Какое оружие у немцев? Думалось ли тогда об этом?..
...Возле небольшого придорожного бугорка лежит богатырь-пограничник... Новые петлицы на расстегнутом воротнике свежо зеленеют и почти сливаются с травой, ствол пулемета торчит вверх. Пограничник своими плечами занял чуть ли не весь бугор, жилистые окровавленные руки раскинуты, как в крепком непробудном сне.
Возле пограничника пересеченный пополам немец-оккупант, голова накрыта огромной железной каской. Вот он, самый безжалостный, вероломный враг!..
И тут Черепанов заметил, что в правой руке богатыря-пограничника оголенная шашка... Значит, он пошел врукопашную, когда его пулемет заглох...
У него, у начальника заставы, тоже есть шашка... Это кроме нагана, кроме двух гранат, подвешенных на поясе. Можно идти и врукопашную!..
...Пока бежали, попадались убитые фашисты,— должно быть, их уложил пограничник-богатырь. Как они сюда прошли?.. Там же Новиков возле дуба... С таким же ручным пулеметом, с такой же шашкой и сам такой же могучий, как и тот, что погиб первым, но пока что неизвестным героем.
...В тылу группы послышалась пулеметная очередь, а потом и одиночные винтовочные выстрелы. Диски, видимо, кончились. А может подать их некому. Там же у Новикова был второй номер. Был, но — есть ли теперь?..
...В зарослях мелькнула жена Храмцова с ребенком на руках. Потом и сам Храмцов: значит, и его группа поблизости.
...Последние кусты, последние деревья заповедной территории... Дальше — колхозные поля, потом деревенские огороды. Открытое место... Но это же свои поля, свои огороды!..
Последний рубеж для атаки, маленькая передышка в зарослях. Трудновато и самому расставаться с привычными, такими близкими сердцу и надежными местами, и все пограничники залегли словно бы и не было команды.
...Перед глазами — давно распаханное, красочное от цветов и злаков поле, затянутое дымом пожара в деревне; на поле немцев не видно. Значит, они за околицей деревни, а может, и дальше. Их надо нагнать и уничтожить: может, только тут они и прорвались. Новиков задержит тех, а мы настигнем этих...
Дым стелется по земле, достигает кустов. За ним приплывает запах, не такой горький, как там, в лесу, от взрывов, но все же неприятный, так как не из труб этот дым, не домашний... Плывет этот дым от горящих хат, от большой беды людской. И все больше густеет, все больше ширится по полю.
Этот дымовой заслон может помочь проскочить открытое место и вплотную приблизиться к немцам. Только бы нагнать их, только бы перехватить!..
...Храмцов подбежал почему-то без фуражки. Рыжеватые волосы вздыбились, веснушчатый нос топорщится вверх. Весь зелено-юный, хоть и женатый.
— Где фуражка? — не сдержался Черепанов.
Храмцов левой ладонью провел по волосам, очевидно, он сам не чувствовал, что на голове нет фуражки. Потом этой же рукой махнул в ту сторону, откуда прибежал: правую руку держал наготове, в ней был наган.
— Веди левый фланг! — приказал ему Черепанов.
— Куда вести? — переспросил Храмцов.
— Как куда? — начальник заставы только теперь заметил в безбровых глазах своего подчиненного безнадежность и крикнул так, что услышали даже и те пограничники, что лежали дальше.
— На нарушителей границы! Разве не ясно?
— Это не то, что ты думаешь,— вглядываясь в задымленное поле, сказал Храмцов.— Это — война, и мы уже в тылу врага.
— Выполняй приказ! — решительно повторил Черепанов и подал знак всем двигаться вперед. Сам поднялся первым.
...Немцев настигли возле деревни... Настигли и открыли огонь из всего огнестрельного оружия, которое у них было. Черепанов готов был подать команду и на рукопашную — шашек и штыков хватало. Никакой враг не выдержал бы такой яростной русской атаки — это он знал из истории прошлых войн, но совершенно неожиданно для себя увидел возле деревенских плетней два немецких танка. «Как они очутились тут, когда и где перешли границу?»
Танки развернулись на внезапные выстрелы и открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Разрывные пули косили, выжигали траву, заросли, оглушали лязгом пограничников и создавалось впечатление, будто стрельба идет со всех сторон. В ту же минуту зловеще и страшно зашуршали мины и начали рваться одна за другой, одна за другой...
...Даже в этом несмолкаемом гуле вдруг послышался пронзительный и отчаянный крик женщины. Скачала крик, потом, будто болезненный, удивленный возглас, а затем плач, тяжелый, надрывный. Черепанов узнал голос жены Храмцова: единственную женщину на заставе сразу и всюду узнавали все — по говору, по походке, по одежде и по многим другим, еле уловимым, приметам.
Когда затихла, как бы захлебнулась слезами, женщина, заплакал ребенок. Этот плач, резкий, сильный, требовательный, пробивался сквозь все громы и шумы, пронизывал все вокруг, проникал в сердце каждому, волновал, тревожил, пугал, взывал к милосердию, защите и помощи. Наступил миг, когда ничего другого и не было слышно, кроме этого детского плача: даже немецкие пулеметы и минометы замолчали, и по всей задымленной окрестности разносился только этот детский голос.
...Плач единственного на заставе ребенка, все перекрывающий голос человека, который еще только и умел, что плакать, остался в ушах Черепанова надолго. Этот плач вдруг на какой-то момент слился с близким зловещим визгом мины и потом начал звенеть, сверлить все внутри, затмевать глаза, затягивая в беспокойную мрачно-бурливую бездну.
"Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе... и тем кто сделал к ней первой шаг..."